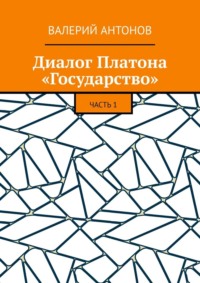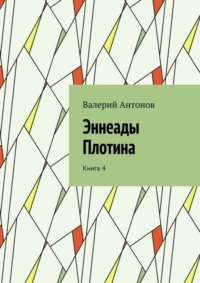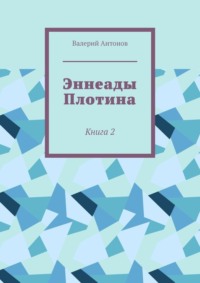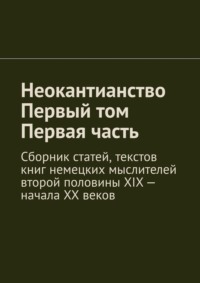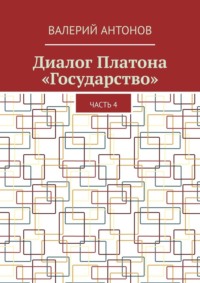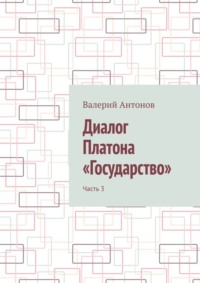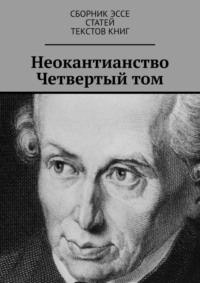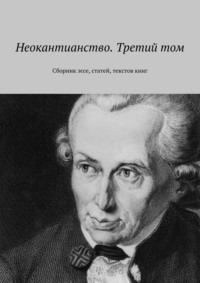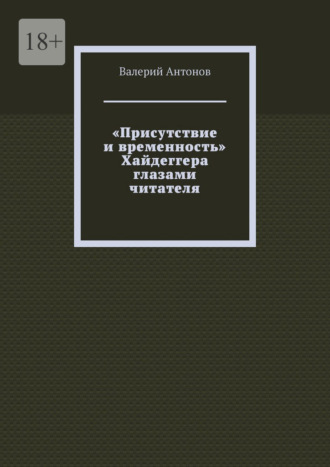
Полная версия
«Присутствие и временность» Хайдеггера глазами читателя
2. Уильям Блоссфельд (William Blattner) в «Heidegger’s «Being and Time’» акцентирует внимание на связи бытия-к-смерти и временности. Он показывает, что анализ повседневного отношения к смерти необходим Хайдеггеру именно для того, чтобы контрастно выявить подлинное понимание смерти как предела, организующего временную структуру заботы.
3. Стивен Малдун (Stephen Mulhall) в «Routledge Philosophy GuideBook to Heidegger and Being and Time» обращает внимание на языковые игры Хайдеггера (например, «man stirbt») как на ключ к пониманию того, как язык «Man» искажает экзистенциальные реалии.
Отечественные специалисты:
1. Владимир Бибихин в работе «Дело Хайдеггера» и в своем переводе «Бытия и времени» дает глубокие комментарии. Он переводит «Man» как «Люди» и раскрывает этот феномен как форму безличной власти публичности, которая лишает человека его собственного голоса, в том числе и в вопросе смерти.
2. Михаил Маяцкий в различных статьях и лекциях часто обращается к Хайдеггеру. Он анализирует «бытие-к-смерти» как форму радикальной индивидуализации, которая вырывает Dasein из власти «Man» и заставляет его стать самим собой.
3. Татьяна Щитцова в своих исследованиях (например, «Событие и смерть: К критике онтологических оснований понятия события у Хайдеггера») рассматривает смерть не просто как конец, но как событие, которое придает уникальность и целостность всей жизни Dasein, структурируя его временность.
Таким образом, §51 является критикой неподлинного существования, но критикой, которая через негатив (бегство) показывает позитив (истинную природу бытия-к-смерти как основы временности и, следовательно, самой экзистенциальной структуры Dasein).
§52. «Повседневное бытие-к-концу и полное экзистенциальное понятие смерти»
Если предыдущий параграф был критическим анализом того, как «Man» уклоняется от смерти, то этот параграф – это попытка прорваться сквозь это уклонение к подлинному экзистенциальному понятию смерти. Хайдеггер действует как детектив: он изучает следы, которые само бегство оставляет на месте преступления, чтобы восстановить облик того, от чего бегут. Он делает это через анализ двух ключевых характеристик смерти, которые даже в искаженной форме признаются в повседневности: её достоверность и неопределённость.
Достоверность смерти: не эмпирический факт, а экзистенциальная уверенность
Хайдеггер начинает с того, что заявляет: «Man» формально признает, что смерть достоверна («все умирают»). Но эта «достоверность» – подделка. Она основана на статистике и наблюдении за смертями других («эмпирическая достоверность»). Это знание о смерти как о внешнем факте, который случается с другими и когда-нибудь случится со мной.
Рефлексия: Здесь Хайдеггер проводит фундаментальное различие, которое я как читатель нахожу крайне важным. Есть разница между знанием о смерти (как о биологическом факте) и экзистенциальной уверенностью в своей смерти. Первое – это информация, которую я могу принять или игнорировать. Вторая – это онтологическая константа моего бытия, которая структурирует всё моё существование, нравится мне это или нет. «Man» цепляется за первое, чтобы избежать второй.
Повседневное сознание даже пытается быть «критичным», заявляя, что смерть «всего лишь» highly probable, но не абсолютно достоверна, как, например, математическая истина. Для Хайдеггера это чудовищное заблуждение, проистекающее из непонимания самой природы Dasein. Достоверность смерти – это не теоретическая (аподиктическая) достоверность, а экзистенциальная уверенность (Gewißsein), которая является модусом бытия Dasein. Я есть бытие-к-смерти, а не просто знаю, что умру. Эта уверенность не нуждается в эмпирических доказательствах; она предшествует им.
Неопределённость «когда»: не недостаток знания, а сущностная черта
Второй момент – это неопределенность момента смерти. «Man» справляется с этой тревожной неопределенностью, откладывая её: «смерть достоверна, но пока ещё нет». Это «но пока ещё нет» – не безобидная констатация, а активная стратегия. Оно отсылает Dasein к миру повседневных забот, которые кажутся определенными и управляемыми. Мы заменяем экзистенциальную неопределенность смерти на практическую определенность дел, которые нужно сделать «прямо сейчас».
Рефлексия: Это, пожалуй, самый пронзительный insight параграфа. Мы строим графики, планы на год, копим на пенсию, живём в иллюзии, что будущее протянется перед нами долго и predictable. Но подлинная экзистенциальная истина в том, что смерть возможна в любой момент. Её «когда» не просто неизвестно – оно не может быть известно по своей сути. Эта неопределенность – не недостаток нашего знания, а положительная, конституирующая черта самой смерти как возможности. Признать это – значит жить в постоянном осознании хрупкости и конечности.
Синтез: полное экзистенциальное определение смерти
Собрав воедино анализ уклонения, достоверности и неопределённости, Хайдеггер дает итоговое, полное экзистенциально-онтологическое определение смерти:
Смерть есть собственнейшая, непринадлежащая [unbezügliche], неупредимая [unüberholbare], достоверная и как таковая неопределенная возможность бытия Dasein.
Рефлексия: Это определение – не о физическом конце. Это определение о том, как смерть присутствует в жизни как её самая главная возможность.
· Собственнейшая: Её нельзя перепоручить другому. Только я могу умереть свою смерть.
· Непринадлежащая: Она разрывает все мои отношения с миром. Перед ней я радикально одинок.
· Неупредимая: Её нельзя обогнать, отменить или превзойти. Она – абсолютный предел.
· Достоверная: Я в ней уверен не теоретически, а экзистенциально, всем своим бытием.
· Неопределенная: Её момент неизвестен и принципиально не может быть известен.
Только такая смерть, понятая не как событие в конце, а как возможность, которая определяет жизнь здесь и сейчас, позволяет Dasein стать целым.
Целостность Dasein и «вперед-себя»
Здесь Хайдеггер делает решающий шаг к временности. Он отвергает обывательский аргумент, что Dasein не может быть целым, потому что оно всегда имеет впереди себя «еще-не» (например, будущие события). Но смерть – это не просто последнее событие в ряду других «еще-не». Это крайняя возможность, которая замыкает и определяет собой все остальные возможности. Бытие-к-смерти – это не ожидание конца, а осознание того, что моё «вперед-себя» (будущее) конечно. Именно эта конечность и придает моему проектированию себя, моему выбору и моей жизни напряженность, серьезность и подлинность.
Без понимания смерти как края, Dasein было бы бесконечным и, следовательно, лишенным формы и смысла – его забота не могла бы структурироваться в целостность. Таким образом, бытие-к-смерти есть основание возможности целостности Dasein.
Итоговая рефлексия: Этот параграф подводит нас к порогу. Хайдеггер показал, чем смерть не является (§51), и дал ей строгое философское определение (§52). Но это определение пока что формальное. Самый главный вопрос остаётся: как возможно подлинное бытие-к-смерти? Как перейти от бегства к принятию? Как жить, постоянно держа в уме эту «достоверную и неопределенную возможность»? Ответ на этот вопрос, который будет дан в следующих параграфах через феномены совести и решимости, и откроет нам временность как конечную основу заботы.
Трактовки и библиографические источники
Зарубежные специалисты:
1. Уильям Блоссфельд (William Blattner) в «Heidegger’s Being and Time: A Reader’s Guide» подчеркивает, что определение смерти как «возможности» – это не парадокс, а ключ к пониманию. Цель Хайдеггера – не думать о смерти, а мыслить из нее. Эта возможность, в отличие от всех других, заключается в невозможности быть-в-мире, и именно это радикально меняет наше отношение ко всем другим возможностям.
2. Стивен Малдун (Stephen Mulhall) акцентирует внимание на связи достоверности и неопределенности. Он говорит, что именно эта комбинация – что смерть неизбежна, но её момент неизвестен – заставляет Dasein понять, что оно уже сейчас является бытием-к-смерти, а не станет им в будущем. Это снимает проблему «нецелостности».
3. Отто Пёггелер (Otto Pöggeler) в своей классической работе «Der Denkweg Martin Heideggers» видит в этом параграфе кульминацию подготовки к анализу временности. Понятие «крайней возможности» позволяет Хайдеггеру переосмыслить будущее не как то, что еще предстоит, а как то, что уже присутствует в виде конечного горизонта всех моих проектов.
Отечественные специалисты:
1. Владимир Бибихин в комментариях к переводу «Бытия и времени» обращает особое внимание на термин «unüberholbar» (неупредимая). Он переводит его как «необходимая» и «та, которую не обойдешь», подчеркивая, что смерть – это не внешний предел, а внутренний закон самого существования Dasein, его самости.
2. Михаил Маяцкий часто указывает на то, что хайдеггеровская смерть – это «пустая» возможность, возможность невозможности. Её содержание не поддается позитивному описанию, но её функция – чисто негативная: она опустошает все привычные содержания мира, заставляя Dasein столкнуться с голым фактом своего существования как свободы и ответственности.
3. Алексей Черняков в работе «Онтология времени» анализирует хайдеггеровскую концепцию времени. Он показывает, что тезис о целостности Dasein, основанный на бытии-к-смерти, возможен только потому, что время у Хайдеггера не линейно (прошлое-настоящее-будущее), а экстатично: будущее как «вперед-себя-бытие» (к смерти) возвращается к прошлому (фактичности) и проявляется в настоящем (заброшенности в мир). Смерть является тем горизонтом, который замыкает эту экстатическую временную структуру в целое.
Мы подходим к самому сердцу вопроса – возможности подлинного бытия к смерти. Этот параграф сложный и требует внимательного чтения.
§53. «Экзистенциальный проект подлинного бытия-к-смерти»
Этот параграф – это философский прорыв. Хайдеггер ставит, возможно, самый сложный вопрос во всей книге: как возможно подлинное отношение к собственной смерти? Как мы можем онтологически (то есть на уровне самой структуры бытия) описать то, что эмпирически встречается так редко? Ведь большую часть времени мы живем в бегстве, и даже если кто-то достигает подлинности, это скрыто от взгляда других.
Хайдеггер начинает не с нуля. У него уже есть:
1. Позитивный ориентир: строгое экзистенциальное определение смерти как возможности.
2. Негативный ориентир: детальное описание неподлинного бытия-к-смерти (бегство, успокоение, отчуждение).
Его задача – используя эти ориентиры, «спроектировать» (entwerfen) структуру подлинного отношения. Это не описание чужого опыта, а выявление внутренней возможности, заложенной в самом Dasein.
Ключевой поворот: Отношение к возможности как к возможности
Сердцевина аргументации Хайдеггера – это различение двух фундаментальных способов относиться к возможности.
1. Обыденное (повседневное) отношение: «озабоченная реализация».
o В мире заботы мы встречаем возможности как нечто, что нужно реализовать. Построить дом, получить должность, приготовить обед.
o Цель: уничтожить возможность, превратив её в действительность (Verwirklichung). Возможность здесь – лишь временная ступенька к чему-то реальному и полезному.
o Пример: Возможность иметь дом исчезает, как только дом построен. Он становится реальностью, которая, в свою очередь, открывает новые возможности (например, возможность в нём жить).
2. Отношение к смерти: «удержание возможности как возможности».
o Смерть – это не возможность чего-то в мире. Это возможность самого бытия Dasein. Её нельзя «реализовать», не уничтожив при этом само Dasein (самоубийство – это не бытие-к-смерти, а акт, прекращающий всякое бытие).
o Следовательно, подлинное бытие-к-смерти – это не движение к её реализации, а радикально иное отношение: понимающее удержание этой возможности в её постоянной возможности.
o Рефлексия: Здесь Хайдеггер совершает гениальный ход. Он говорит: подлинное отношение к смерти – это не думать о ней постоянно как о будущем факте (это как раз неподлинное «думание о смерти», котороеcalculatingly пытается её приручить), а принять её как то, что определяет мою жизнь прямо сейчас. Это значит жить с осознанием, что моя фундаментальная возможность – это невозможность бытия, и это знание придает абсолютную ценность и конечность всем моим остальным возможностям.
Критика ожидания (Erwarten)
Хайдеггер предвидит возражение: а не является ли такое отношение просто «ожиданием» (Erwarten) смерти? Нет, и это крайне важный момент.
· Ожидание – это все ещё неподлинная позиция. Ожидая чего-то, я смотрю сквозь возможность, на её будущую реализацию. Я жду, когда возможность станет действительностью.
· Пример: Ожидая поезда, я мысленно уже переношусь в момент его прибытия. Само ожидание для меня – лишь досадная задержка.
Ожидание смерти, таким образом, – это всё то же бегство. Это способ не быть с ней здесь и сейчас, а спроецировать её в будущее («когда-нибудь это случится»), тем самым освобождая настоящее от её бремени.
Рефлексия: Этот параграф – это подготовка почвы. Хайдеггер методом исключения показывает, чем подлинное бытие-к-смерти не является: оно не реализация, не размышление и не ожидание. Оно должно быть понимающим принятием смерти как постоянно присутствующей, неустранимой, собственной возможности, которая никогда не перестает быть возможностью. Такое отношение не уничтожает возможность, а, напротив, раскрывает её во всей её полноте и мощи.
Это кажется почти невозможным, парадоксальным. Как можно «удерживать» возможность, не пытаясь её реализовать? Ответ на этот вопрос приведет нас к ключевым понятиям тревоги (Angst) и решимости (Entschlossenheit), которые будут рассмотрены далее. Тревога – это то настроение, которое раскрывает Ничто и нашу конечность, а решимость – это онтологическая способность Dasein выстоять в этой тревоге и принять свою судьбу, проецируя себя на свою собственнейшую возможность – смерть. Только так временность Dasein может обрести подлинную целостность.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.