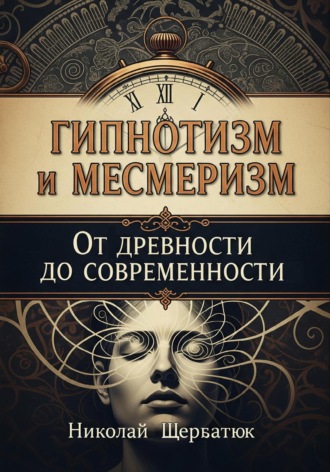
Полная версия
Гипнотизм и Месмеризм: От Древности до Современности
Одним из наиболее характерных и спорных аспектов магнетических сеансов были так называемые "кризисы" и их значение. Во время сеансов многие пациенты испытывали сильные эмоциональные и физические реакции: неконтролируемые рыдания, смех, дрожь, конвульсии, судороги, обмороки. Месмер считал эти "кризисы" доказательством того, что заблокированный магнетический флюид высвобождается из тела, и это является необходимым этапом на пути к исцелению. Он утверждал, что это естественный процесс очищения и восстановления баланса. Для сегодняшнего понимания, эти "кризисы" можно интерпретировать как катарсис – мощное эмоциональное высвобождение, вызванное глубоким внушением, ожиданием и атмосферой. В контексте психотерапии, катарсис часто является важным элементом исцеления, позволяющим выразить подавленные эмоции и снять психическое напряжение.
Первые свидетельства успеха Месмера были многочисленны и часто поразительны. Люди заявляли об исцелении от широкого спектра заболеваний, включая истерию, параличи, слепоту, глухоту, нервные расстройства и хронические боли. Истории об этих чудесных исцелениях быстро распространялись, создавая вокруг Месмера ореол спасителя и целителя. Его клиентами становились представители высшего общества, аристократии, что придавало его деятельности еще больший вес и легитимность.
Влияние на общественное сознание и научный мир было колоссальным. В то время, когда традиционная медицина была часто бессильна перед многими болезнями и ее методы (кровопускание, рвотные средства) могли быть весьма болезненными и опасными, Месмер предлагал нечто совершенно иное – метод, который казался мягким, но давал невероятные результаты. Он стал сенсацией, предметом бесконечных разговоров, споров и подражаний. В Париже появились многочисленные "магнетические салоны", где самозваные "месмеристы" пытались повторить его успех, часто без должного понимания его теории или этики. Общество разделилось на восторженных сторонников и яростных противников. Научный мир, однако, отнесся к Месмеру с глубоким скептицизмом. Его идеи о невидимом флюиде не вписывались в развивающуюся механистическую картину мира, а его "кризисы" казались скорее истерическими проявлениями, чем научным феноменом. Это растущее неприятие со стороны академического сообщества стало предвестником его скорого падения.
Раскол и Непонимание: Критика и Изгнание Месмера
Несмотря на ошеломляющий успех и толпы исцеленных пациентов, карьера Франца Антона Месмера в Париже внезапно оборвалась, ознаменовав собой период Раскола и Непонимания. То, что начиналось как научная сенсация, превратилось в яростный конфликт между сторонниками и противниками "животного магнетизма", который в конечном итоге привел к критике и изгнанию Месмера.
Главной причиной этого раскола стало отношение официальной медицины и науки к его методам. Академическое сообщество XVIII века, вдохновленное Ньютоном и Лавуазье, требовало строгих эмпирических доказательств и объяснений, основанных на наблюдаемых и измеряемых физических законах. Теория Месмера о невидимом "животном магнетизме", который нельзя было измерить или увидеть, казалась им ненаучной и мистической. Врачи того времени были глубоко привержены своим методам, многие из которых были инвазивными и порой опасными (например, кровопускание), и с подозрением относились к любому, кто предлагал что-то радикально новое, да еще и с такими "чудесными" результатами.
Кульминацией конфликта стало создание двух королевских комиссий в 1784 году, призванных исследовать феномен месмеризма. В их состав вошли выдающиеся ученые и деятели того времени, включая знаменитого химика Антуана Лавуазье, врача Жозефа-Игнаца Гильотена (изобретателя гильотины) и даже американского посла во Франции, изобретателя и ученого Бенджамина Франклина. Комиссии провели серию экспериментов, пытаясь воспроизвести эффекты магнетизма без участия Месмера и его "флюида". Например, они проводили сеансы, где пациенты верили, что их магнетизируют, но на самом деле магнетизер ничего не делал. Результаты были поразительными: пациенты испытывали те же "кризисы" и улучшения, что и во время сеансов Месмера.
Выводы комиссий были однозначны и разрушительны для Месмера. Они пришли к заключению, что "животный магнетизм" как физическое явление не существует. Все наблюдаемые эффекты, включая исцеления и "кризисы", были объяснены силой воображения, подражанием и возбуждением нервной системы. Комиссии не отрицали, что пациенты испытывали реальные улучшения, но утверждали, что это происходит не из-за некоего флюида, а из-за психологического воздействия – по сути, того, что мы сегодня называем эффектом плацебо и внушаемостью. Этот вывод стал мощным ударом по репутации Месмера. Он был публично дискредитирован, его методы были объявлены шарлатанством, а его идеи – ненаучными.
Это стало началом демистификации и научного подхода к феноменам, которые Месмер приписывал "животному магнетизму". Хотя комиссии ошибочно отвергли само существование магнетизма как физического явления (ведь тогда еще не было глубокого понимания электромагнитных полей), они, сами того не ведая, указали на истинный источник силы – человеческую психику. Они, по сути, открыли дверь к изучению внушаемости, ожидания и их влияния на тело и разум. Месмер, возможно, был неправ в своей объяснительной модели, но он был прав в своих наблюдениях: люди действительно исцелялись, и это происходило через мощное, но пока еще не понятое воздействие на психику.
После публикации докладов комиссий, Месмер столкнулся с полным отторжением со стороны медицинского сообщества и был вынужден покинуть Париж. Он провел остаток жизни в относительной безвестности, продолжая верить в свою теорию и лечить людей, но уже не с тем размахом. Его изгнание было трагичным для него лично, но парадоксально, оно стало поворотным моментом для развития гипноза. Именно благодаря этим комиссиям, внимание сместилось с мистического "флюида" на внутренние психологические механизмы, заложив фундамент для более научного изучения феномена, который впоследствии назовут гипнозом.
Наследники Месмера: Путешествие и Распространение Месмеризма
Несмотря на официальное порицание и изгнание Франца Антона Месмера, его идеи и практики не исчезли. Напротив, они начали свою собственную, не менее увлекательную жизнь, распространяясь по Европе и Америке благодаря его наследникам. Эти люди, хотя и не всегда соглашались с первоначальной теорией Месмера о "животном магнетизме" как физическом флюиде, были свидетелями поразительных результатов его методов и стремились продолжить его работу, адаптируя и развивая ее. Таким образом, месмеризм отправился в свое собственное путешествие, постепенно трансформируясь и закладывая основы для будущего гипноза.
Среди учеников Месмера и их вклада особо выделялся Маркиз де Пюисегюр (1751–1825). Он был одним из самых верных и проницательных последователей Месмера, но именно его наблюдения привели к первому значительному отходу от ортодоксального месмеризма. Де Пюисегюр заметил, что его пациенты не всегда испытывают бурные "кризисы", которые так подчеркивал Месмер. Вместо этого они часто впадали в состояние глубокого, спокойного сна, который он назвал "искусственным сомнобулизмом" (от лат. somnus – сон, ambulare – ходить). В этом состоянии пациенты могли говорить, отвечать на вопросы, выполнять команды, даже не помня об этом после пробуждения. Более того, в этом состоянии они демонстрировали повышенную чувствительность, телепатические способности и, что самое важное, могли сами давать себе "рецепты" для исцеления, обретая внутреннее знание о причинах своих недугов. Де Пюисегюр сосредоточился не на магнетическом флюиде, а на воле и намерении магнетизера, а также на внутренних ресурсах пациента. Он открыл, что ключевым фактором является не столько некий внешний флюид, сколько внутреннее состояние пациента и его способность к внушаемости. Его работа была революционной, так как она сдвинула фокус с физического аспекта месмеризма на психологический, проложив путь к пониманию феномена, который позже назовут гипнозом.
Другие важные фигуры, такие как аббат Фариа (1756–1819), португальский католический монах индийского происхождения, также внесли свой вклад. Он категорически отрицал существование животного магнетизма и утверждал, что все эффекты месмеризма объясняются исключительно силой внушения и воображения. Фариа не использовал никаких "бакетов" или пассов; он просто говорил своим пациентам: "Спите!". Он был одним из первых, кто открыто заявил, что все дело в субъективной готовности пациента. Его подход был гораздо более прямым и психологически ориентированным, что приближало месмеризм к современному пониманию гипноза как феномена, основанного на внушаемости.
Распространение идей в Европе и Америке было поразительным. Несмотря на официальное неприятие во Франции, месмеризм процветал в других странах. В Германии, где романтизм и интерес к оккультизму были сильны, идеи Месмера нашли благодатную почву. Немецкие врачи и философы, такие как Шеллинг и Гегель, интересовались этими феноменами, видя в них проявление невидимых сил природы и души. В Англии месмеризм был также популярен, и многие врачи использовали его для лечения различных заболеваний.
Особенно активно месмеризм распространился в США. Туда его привезли ученики Месмера, и он быстро нашел своих последователей. Американские "магнетизеры" проводили публичные демонстрации, привлекая огромные аудитории. Они использовали месмеризм для проведения операций без боли (так называемая "месмеро-наркоза" до изобретения эфира), что было настоящим чудом для того времени. Такие фигуры, как Элиотсон в Англии, проводивший операции под месмерическим трансом, и Джеймс Эсдейл в Индии, который провел сотни операций с использованием "магнетического транса", подтвердили его практическую ценность. Хотя они не понимали точных механизмов, их работа доказала, что определенное состояние сознания может значительно уменьшить боль и ускорить заживление.
Таким образом, наследники Месмера не просто копировали его методы; они развивали их, смещая акцент с мистического "флюида" на внутренние психологические процессы. Они были первыми, кто начал отделять суть феномена (измененное состояние сознания и внушаемость) от мистической оболочки, в которую его облачил Месмер. Их путешествие и распространение месмеризма стали важнейшим этапом в истории изучения гипноза, превратив его из эзотерической практики в предмет научного исследования, пусть и через множество споров и заблуждений. Они доказали, что даже если теория была ошибочной, наблюдаемые эффекты были реальными, и их изучение могло привести к глубоким открытиям о природе человеческого разума.
Глава 3: Рождение Гипноза – От Хаоса к Порядку
После бурной, но хаотичной эпохи Месмера, где грань между наукой и шарлатанством была тонка, а "животный магнетизм" вызывал больше споров, чем понимания, пришло время для систематизации и осмысления. XIX век, век стремительного научного прогресса и стремления к рационализации, стал колыбелью для нового подхода к феноменам транса и внушения. Это была эпоха Рождения Гипноза – время, когда разрозненные наблюдения и мистические интерпретации начали обретать форму, превращаясь от хаоса к порядку. В этой главе мы проследим, как имя "месмеризм" уступило место "гипнозу", как медицинское сообщество, хоть и с переменным успехом, пыталось осмыслить и применить эти удивительные явления, и как эти ранние шаги заложили фундамент для всей современной психотерапии.
Джеймс Брейд: Введение Термина "Гипноз"
XIX век принес с собой новый виток интереса к месмеризму, но уже под более строгим научным углом. В Манчестере, Англия, практикующий хирург по имени Джеймс Брейд (1795–1860) посетил публичную демонстрацию "магнетизма" и, как многие его современники, поначалу отнесся к ней скептически. Однако, будучи человеком науки и наблюдательным врачом, он решил исследовать эти феномены самостоятельно, применяя научный метод. Именно Брейд стал ключевой фигурой, которая совершила революцию в понимании месмеризма, предложив научное обоснование и систематизацию явлений, а также подарив миру новый, до сих пор использующийся термин: "гипноз".
Брейд начал свои эксперименты, сосредотачиваясь не на "магнетическом флюиде", а на физиологических реакциях пациентов. Он заметил, что состояние, в которое впадали "магнетизированные" люди, часто начиналось с неподвижной фиксации взгляда на каком-либо блестящем объекте, расположенном немного выше уровня глаз. Эта фиксация приводила к напряжению глазных мышц, усталости и, в конечном итоге, к закрытию век и погружению в сонливое состояние. Брейд пришел к выводу, что это состояние не вызывается неким внешним флюидом, а является психофизиологическим феноменом, обусловленным длительной монотонной стимуляцией и фокусировкой внимания. Он назвал его "нейрогипнотизмом" (от греч. hypnos – сон, neuron – нерв), а затем сократил до просто "гипноз", подчеркивая его сходство со сном, но признавая его отличное от обычного сна состояние.
Его научное обоснование и систематизация явлений были революционными. Брейд отверг мистические и паранормальные объяснения месмеризма. Он утверждал, что эффекты, наблюдаемые при месмеризме (такие как анестезия, амнезия, внушаемость), являются результатом измененного состояния нервной системы, вызванного сосредоточением внимания. Он продемонстрировал, что для введения в гипнотический транс не требуется никакого "флюида" или особых "магнетических" способностей оператора; достаточно лишь создать условия для концентрации внимания и ожидания. Он проводил эксперименты, доказывая, что тот же эффект может быть достигнут с помощью любого фиксированного взгляда (например, на лампе или пуговице), монотонного звука или даже простого расслабления. Это был колоссальный шаг вперед в демистификации феномена и переводе его из области "чудес" в область физиологии и психологии.
Отличие гипноза от месмеризма стало центральной темой его работ. Брейд четко разграничил эти два понятия. Месмеризм, по его мнению, основывался на ложной теории о внешнем магнетическом флюиде, передаваемом от оператора к пациенту. Гипноз же, напротив, был внутренним состоянием, вызванным сосредоточением внимания и ожиданием пациента. Он подчеркивал, что это не пассивное состояние, а активный процесс со стороны психики пациента. Более того, Брейд активно применял гипноз в своей медицинской практике, используя его для обезболивания во время операций, лечения нервных расстройств, бессонницы и хронических болей. Он был пионером в использовании гипноза в стоматологии и акушерстве.
Работы Брейда были встречены с переменным успехом. Некоторые врачи приняли его идеи, видя в них рациональное объяснение ранее необъяснимых феноменов. Другие, особенно те, кто был глубоко увлечен месмеризмом, отвергли его как упрощение или даже попытку дискредитировать их практики. Однако именно благодаря Брейду феномен транса получил новое, более научное название и стал объектом академического изучения. Он вывел его из тени мистицизма и суеверий, открыв путь для дальнейших исследований и применения в медицине и психологии. Его вклад был фундаментальным: он не только дал имя, но и заложил теоретическую базу для понимания того, что гипноз – это прежде всего состояние повышенной внушаемости, вызванное изменением фокуса внимания и сознания.
Школа Сальпетриер: Жан-Мартен Шарко и Истерия
В конце XIX века, когда гипноз постепенно начинал обретать научный статус благодаря Джеймсу Брейду, на горизонте европейской медицины появилась новая мощная фигура – Жан-Мартен Шарко (1825–1893), выдающийся французский невролог. Работая в знаменитой парижской больнице Сальпетриер, Шарко сосредоточил свое внимание на изучении неврологических расстройств, в частности, истерии, и именно его исследования в этой области привели к неожиданному, но значительному вкладу в развитие гипноза.
Шарко был одним из самых влиятельных врачей своего времени, известным своими детальными клиническими наблюдениями и систематическим подходом к диагностике. Он считал, что истерия – это реальное неврологическое заболевание, имеющее органическую основу, а не симуляция или проявление "слабости духа", как это часто воспринималось тогда. Он был убежден, что истерия имеет специфические, воспроизводимые симптомы (такие как параличи, анестезии, припадки), и эти симптомы могут быть вызваны или сняты с помощью гипноза.
Именно это убеждение привело к тому, что гипноз стал для него инструментом изучения психопатологий, в частности истерии. Шарко проводил демонстрации для студентов и коллег, показывая, как он может воспроизводить истерические симптомы у своих пациентов, находящихся в гипнотическом трансе, а затем снимать их. Он описывал три стадии гипноза: летаргия (глубокий сон), каталепсия (восковая гибкость, когда конечности остаются в приданном им положении) и сомнобулизм (состояние, похожее на бодрствование, но с амнезией после пробуждения). Он верил, что только истеричные пациенты могут быть по-настоящему глубоко загипнотизированы и демонстрировать все эти стадии. Из этого он делал вывод, что гипнабельность является маркером истерии и, соответственно, нервного заболевания.
Его публичные демонстрации в Сальпетриер были настоящими спектаклями, привлекающими толпы врачей, студентов и даже представителей высшего общества. Эти демонстрации, хоть и впечатляющие, породили множество споров. Пациентки Шарко, большинство из которых были женщинами, часто демонстрировали драматические реакции, которые Шарко интерпретировал как подтверждение его теории. Он был убежден в физиологической природе гипноза, полагая, что он воздействует на нервные центры мозга.
Влияние на развитие психиатрии было двояким. С одной стороны, Шарко поднял статус истерии как серьезного медицинского состояния, требующего исследования, а не просто осуждения. Он привлек внимание к роли психических факторов в возникновении физических симптомов, хотя и объяснял это через призму неврологии. Его работы побудили многих ученых и врачей серьезно заняться изучением гипноза и его потенциального применения в медицине. С другой стороны, его строгий, "клинический" подход к гипнозу, с акцентом на патологию и демонстрацию истерических симптомов, оказался в итоге ограничивающим. Его утверждение, что только истеричные люди могут быть загипнотизированы, было опровергнуто последующими исследованиями. Более того, его методы демонстрации иногда подвергались критике за то, что они могли "обучать" пациентов демонстрировать желаемые симптомы, то есть усиливать их внушаемость и создавать феномены по требованию.
Несмотря на эти ограничения и позднейшую критику, вклад Шарко нельзя недооценить. Он легитимизировал изучение гипноза в ведущих медицинских учреждениях и привлек к нему внимание многих молодых врачей, в том числе и будущего основоположника психоанализа, Зигмунда Фрейда. Именно в Сальпетриер Фрейд впервые столкнулся с гипнозом и его способностью вызывать и снимать симптомы, что стало одним из толчков для его собственных исследований бессознательного и развития психотерапии. Шарко, хоть и ошибался в своих основных выводах о природе гипноза, тем не менее, сыграл ключевую роль в переходе от мистического месмеризма к более научному пониманию измененных состояний сознания в контексте медицины и психопатологии.
Нансийская Школа: Амбруаз Льебо и Ипполит Бернхайм
Параллельно с исследованиями Жан-Мартена Шарко в парижской Сальпетриер, во французском городе Нанси развивалось совершенно иное направление в изучении гипноза, которое радикально отличалось от подхода Шарко и в итоге оказалось более близким к современному пониманию. Это была Нансийская Школа, основанная и разработанная двумя ключевыми фигурами: Амбруазом Огюстом Льебо (1823–1904) и Ипполитом Бернхаймом (1840–1919). Их подход сосредоточился не на физиологических проявлениях или патологиях, а на фокусе на внушаемости и психологическом аспекте гипноза.
Амбруаз Льебо был скромным сельским врачом, который начал использовать гипноз в своей ежедневной практике еще до того, как это стало модной темой. Он не был академическим ученым, но был проницательным наблюдателем и сострадательным целителем. Льебо заметил, что для введения пациентов в транс не требуются сложные манипуляции или театрализованные демонстрации; достаточно было простого устного внушения и сосредоточения пациента на идее сна или расслабления. Он практиковал гипноз в своей скромной клинике, часто бесплатно, предлагая пациентам сесть в кресло и просто расслабиться, повторяя: "Спите, спите, вы устали…" Он верил, что гипноз – это естественное состояние, похожее на сон, и что его эффекты проистекают из внушаемости человека, то есть его способности принимать идеи, предложенные гипнотизером. Он обнаружил, что большинство людей, а не только "истеричные", могут быть загипнотизированы до той или иной степени.
В 1882 году Льебо опубликовал книгу "Сон и сопутствующие явления", которая, хоть и была встречена без особого энтузиазма, привлекла внимание профессора медицины из Нанси, Ипполита Бернхайма. Бернхайм, изначально настроенный скептически, посетил Льебо и был поражен его результатами. Он начал сотрудничать с Льебо, и именно Бернхайм, с его академическим авторитетом и систематическим умом, смог развить и популяризировать идеи Нансийской Школы.
Бернхайм развил теорию, согласно которой гипноз – это чистая внушаемость. Он утверждал, что все феномены гипноза – от каталепсии до амнезии и галлюцинаций – могут быть объяснены как результат обычной человеческой способности реагировать на внушение. Он не отрицал, что гипнотическое состояние существует, но подчеркивал, что это не нечто таинственное или патологическое, а лишь состояние повышенной внушаемости, которое может быть вызвано у любого человека, а не только у истериков. Он проводил эксперименты, показывая, что те же эффекты, которые Шарко связывал с истерией и глубоким гипнозом, можно вызвать у обычных людей в бодрствующем состоянии или в легком трансе, если внушение достаточно сильное.
Различия в подходах Шарко и Нансийской школы были фундаментальными и привели к так называемому "Битве школ" – ожесточенным дебатам в медицинском сообществе конца XIX века.
Природа гипноза: Шарко считал гипноз неврологическим феноменом, связанным с патологией (истерией), и утверждал, что только истеричные люди могут быть глубоко загипнотизированы. Нансийская школа (Льебо и Бернхайм) рассматривала гипноз как психологический феномен, основанный на внушаемости, доступной всем людям в различной степени.
Механизм воздействия: Шарко верил, что гипноз воздействует на нервную систему, вызывая физиологические изменения. Нансийская школа утверждала, что гипноз действует через психологическое внушение, влияя на мысли, чувства и поведение.
Методы индукции: Шарко использовал различные физические стимулы (блестящие объекты, гонг) для вызова транса. Льебо и Бернхайм полагались на простые вербальные внушения, подчеркивая их силу.
Терапевтическое применение: Шарко использовал гипноз в основном для диагностики и демонстрации истерических симптомов. Нансийская школа активно применяла гипноз для лечения широкого спектра заболеваний, от бессонницы до параличей, полагаясь на внушение для облегчения симптомов и устранения причин.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.











