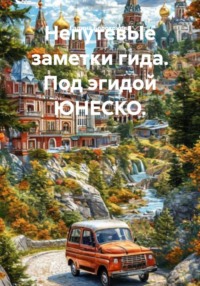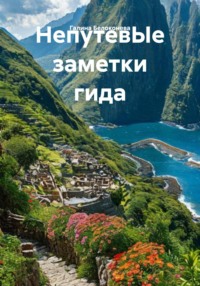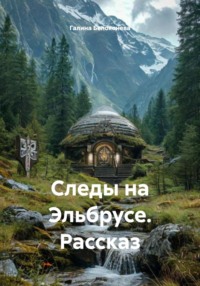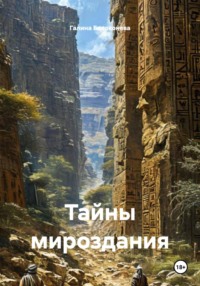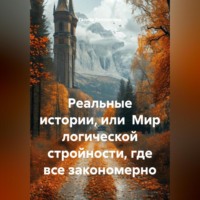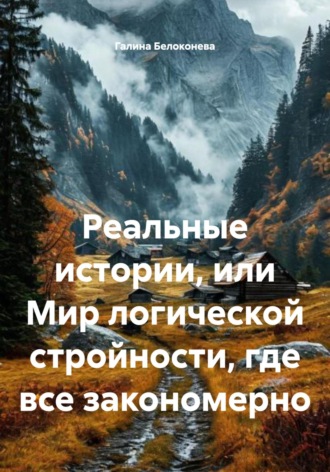
Полная версия
Реальные истории, или Мир логической стройности, где все закономерно
Красива была и одежда, и не только у девушек. Черкесы любили наряжаться и законодателями мод на Кавказе всегда по праву считались они. Их даже называли «французами Кавказа» и «аристократами гор». Их утончённая манера одеваться задавала тон соседним с ними народами. Особым разнообразием и роскошью отличались наряды женщин. Традиционный костюм знатных был многослойным, сложным и состоял из нескольких компонентов: нательной рубахи “джанэкIаку”, шаровар “гъончэдж”, верхнего платья или рубахи “джан”, кафтанчика “кIэкI”, надевающегося поверх рубахи и верхнего распашного платья “сай” с лопатообразными рукавами. Чем длиннее рукав, тем знатней девушка. Подол и рукава платья украшал богатый орнамент в технике золотой или шелковой вышивки. Обязательный атрибут любой одежды – металлические застежки-нагрудники, которые нашивались на пояс и кафтан и стягивали плечи и грудь. Пояс должен был плотно охватывать женскую талию. Пояса и нагрудники изготавливали из латуни или серебра, богато декорированных инкрустацией из драгоценных металлов и камней. Обязательный предмет гардероба знатной черкешенки – шапочка “дышъэ паIу”. Фасонов таких шапочек было огромное множество. Не меньшего внимания заслуживает и женская княжеская обувь “пхъэ вакъэН». Надевали её только по торжественным случаям. Эта обувь предавала походке плавность, неспешность и величие. Изготавливалась такая обувь из дерева. Затем её обшивали бархатом или кожей, а эти материалы богато декорировали вышивкой. Все девушки и женщины обладали мастерством шитья золотом и даже девушек из княжеского рода обучали всему. Обычай аталычество не только княжеских сыновей, но и дочерей воспитывал умелыми и знающими весь крестьянский быт. Дети князей и правящей знати отдавались аталыку, который их воспитывал до совершеннолетия, а жена аталыка обучала девушек. Когда дети князей вырастали, они поддерживали материально своих молочных братьев и сестер, зная какой тяжелый крестьянский быт, у них не было высокомерия и звездности, как у нынешних детей наших чиновников. Моя бабушка и меня всему учила—доить коров, коз, шить, вязать. Мне ,пацанке по характеру, которая любила стрелять и драться с мальчишками, было неимоверно трудно сидеть с пяльцами и осваивать вышивание золотой нитью, но бабуля настойчиво меня поучала и говорила, что такая работа вырабатывает усидчивость и устраняет высокомерие. Позже уже в институте, я удивлялась, как у нее, воспитанной княжной матерью, выросшей в дворянской семье русского офицера с нянюшкой и гувернантками, все получается быстро и качественно, и я поняла, что именно эти горские законы помогли ей выжить в снегах Урала после выселения с Кавказа, и потом, уже в ВОВ. Не озлобиться и всегда уважать людей труда. Когда началась перестройка и приходилось выживать уже нам, я постоянно вспоминала уроки моих бабуленек – будь проще и работай, и к тебе потянутся люди. И уже я шила, перешивала, принимала свиные роды, выводила цыплят в инкубаторе, а потом, сбросив перчатки, защищавшие ногти, шла писать планы для уроков и приводить себя в порядок. Никогда не кичилась кучей высших образований и родством, наверное поэтому, у меня всегда было много друзей, и всегда я выходила из трудных ситуаций, благодаря тому влиянию в детстве на меня этой простой и хрупкой княгинюшки, моей бабушке Нюре. А умение шить золотом и камнями пригодилось – дочь занималась танцами и я сама шила ей костюмы, и расшивала их пойетками и золотыми шнурами. А позже я шила ей дубли брендовой одежды по фото из зарубежных журналов. Сейчас я иногда думаю – вот всем нашим чиновникам, да и не только им, а пожалуй, всем городским надо отдавать детей на воспитание в село, дабы искоренить звездность, чванство и отсутствие элементарных трудовых навыков – все хотят быть менеджерами и вкусно есть, при этом не только не умея физически работать, но и не уважая даже людей труда. Аталычество нам бы в современной РФ не помешало. Демонстрировать свою красоту и богатое убранство одежды собирались на джегу – это игрища, проводимые по инициативе девушки признанной красавицы. Вне зависимости от повода игрище длилось достаточно продолжительное время – один, три или семь дней. Каждое такое игрище собирало от нескольких сотен до нескольких тысяч, а порой и десятков тысяч человек. О предстоящем торжестве сообщалось всей округе заранее, иногда даже за несколько месяцев. В этом была практическая необходимость, так как подготовка к подобному празднеству для будущих участников предстояла достаточно серьезная. Обширная программа джегу включала в себя обрядовые песни и танцы, жертвоприношения и ритуальное принятие пищи, джигитовку, сражение всадников и сражение всадников с пешими, скачки на приз, выбор королевы игрищ, торжественное вручение призов и подарков. Главная задача любого живого существа – выжить. В полной мере это относится и к любому человеку, и к любому народу. Игрище в этой связи является сжатой во времени моделью выживания рода. Этой идеи подчинены все обрядовые элементы джегу. Как известно выживание немыслимо без пищи, без продолжения рода, без защиты от враждебных сил. Все эти элементы заложены в игрище. Изобилие ритуальной пищи на джегу обязательно превосходит потребительские возможности присутствующих, «программируя» подобное изобилие на будущее. Этикет всего игрища, и в особенности обрядовых танцев, является предпочитаемым сообществом прообразом отношений в семье, направленных на ее счастье и благополучие, а, следовательно, на воспитание здорового и достойного во всех отношениях потомства. Особое место в джегу занимают состязания военного характера. Их серьезность настолько высока, что зачастую они с трудом вписываются в понятие «игра». Притом испытанию на стойкость и смелость подвергались не только участники состязания, и не только непосредственно во время своеобразных рыцарских турниров. Английский агент Джемс Станислав Белл в 1837 году, побывав на подобном празднике, так описывает: «казалось бы, мирное развлечение, но даже к такому, казалось бы мирному развлечению, должно было здесь примешиваться нечто воинственное: так ежеминутно раздавались выстрелы из пистолетов над кругом танцующих и непрестанно этот круг находился под угрозой быть прорванным под натиском всадников (некоторые вожди принимали в этом участие, но никто из них в танцах), которых, однако, сдерживает кучка молодых пеших людей, старающихся визгом и ударами ветвей пугать коней. Но все это, по-видимому, не оказывает ни малейшего влияния на нервы дам, как молодых, так и старых…». Апогеем игрищ были скачки на приз, проводимые по традиции ближе к концу празднества. Впрочем, игрища со скачками на приз проводились не всегда, и наличие этого состязание в программе джегу свидетельствовало о его размахе и делало немалую честь устроителю. Как и «потешные» сражения, на протяжении игрищ постоянно повторялся еще один обычай – задержание с целью выкупа одного или нескольких (чаще эта участь выпадала девушкам) присутствующих на празднике. В повседневной жизни адыгов перспектива быть захваченным с целью выкупа или продажи в рабство была более чем реальна, а оказаться в роли похитителя – весьма желанна. Эта веселая и любимая в условиях праздника традиция, как бы программировала на будущее удачу похитителя, и в тоже время неизменное вызволение из беды соплеменника благодаря щедрости близких. Главным распорядителем празднества считался совет старейшин – хасэ. Из его числа избирался глава всего игрища – «джегу тхьэмат». По его распоряжению начинались, возобновлялись, заканчивались все разнообразные действа праздника. Однако непосредственное управление действом всецело было в ведение распорядителя игрища – хатияко, являвшийся одновременно и руководителем музыкантов. Если для всех остальных организаторов, устроителей и участников праздника это было вроде «общественной нагрузки», то хатияко с музыкантами нанимались за определенную плату. Именно на джегу выбирали себе пару для семейной жизни. Главное чувства, любовь и необходимо почувствовать свою половину. На джегу парни и девушки выстраиваются вдоль стен: юноши слева, девушки справа. С каждой стороны находятся специальные «распорядители вечера» – «хьэтеяк1уэ». Они приглашают на танец в центр молодого человека и девушку, затем провожают на свои места, вызывая новую пару. Иногда танцуют сами. Исторически функции распорядителей исполняли уважаемые в обществе люди, «хранители», идеально знающие традиции. Девушка в танце должна показать красоту, стройность, гордость, недоступность, а юноша горячность, импульсивность. В танце не разговаривали, только взгляды, движения, ощущения. Понравившейся девушке юноша, слегка задевая руку ладонью, взглядом спрашивал—согласна? Она взглядом отвечала—да. Как рассказывала моя прабабушка старшей дочери – взглянула в глаза моему прадеду и поняла—это судьба, это суженый. Так и пошла за ним до конца жизни рядом. А он тоже утонул в ее глазах раз и навсегда . Прадедушка мой, русский офицер был кунаком брата прабабушки. Кунаками становились и в русских семьях. По форме и по сути куначество – дальнейшее развитие обычая кавказского гостеприимства, которое по смыслу есть форма искусственного родства, побратимства. Обычай куначества свято соблюдался. Взять кунака из сакли черкеса можно было, лишь перешагнув через труп хозяина сакли. Часто черкесы укрывали русских офицеров от абреков. Куначеские отношения обычно устанавливались с первых взаимных симпатий между хозяином дома и гостем, оформлялись обменом клятвами, обменом ценными и дорогими подарками, и несложными ритуальными формальностями, к примеру, выпивали молоко или вино из одной чаши, в которую бросали золотые монеты. Эти отношения длились на протяжении веков, так как куначество передавалось по наследству. Кунаки и их дети оказывали друг другу взаимопомощь во всех важнейших делах. Кунак заменял детям умерших родителей и опекал их до самого взросления. Куначеские отношения у кавказских народов встречаются и в настоящее время, причём охватывают и представителей других народов и казаков. Наша любимая кинокомедия « Кавказская пленница» в шуточной форме, но показывает, как жили дружно на Кавказе в советское время.
ГЛАВА 3 ДЕТСТВО УКРАИНА
Родилась я в начале шестидесятых в маленьком городке Коркино, основанном в 1943 году для добычи угля, потому что папа служил на секретном объекте «Маяк» на Урале и остался здесь жить. О том, что на Южном Урале есть уголь, стало известно еще в 1832 году. Горный инженер Иван Редикорцев обнаружил выход угля в породах правого берега реки Миасс у деревни Ильинской, примерно в 35 километрах от Челябинска. Еще через 30 лет на берегу реки Увельки около сел Кичигино и Николаевки были обнаружены выходы угля. Известный русский геолог А. П. Карпинский в 1879 году исследовал эти два обнажения и сделал вывод о возможном значительном залегании угля на Южном Урале. Подтверждение этого предположения произошло только в 1906 году. Горный мастер Оренбургского Казачьего войска С. А. Подъяконов, при бурении скважин неподалеку от озера Тугайкуль, подсек пласты каменного угля. Пробы, взятые на правом берегу Миасса, у озера Тугайкуль, где Копейск сейчас, и на берегу Увельки – на значительном удалении друг от друга,– изученные в лаборатории, показали, что это угли одного возраста, одного происхождения и одного химического состава. В 1907 году на берегу озера Тугайкуль и в районе железнодорожного разъезда Козырево началась промышленная добыча угля. Позже здесь вырос небольшой шахтерский поселок Серго-Уфалейск, будущий город Копейск. В Коркино геологи пришли только в 1930 году. Первое месторождение каменного угля, названное "Коркинским", было открыто в апреле 1931 года. Честь открытия принадлежала коллективу Коркинского геологоразведочного отряда под руководством горного инженера С. В. Горюнова. В августе того же года недалеко от первого обнаружили еще одно месторождение угля, более мощное. Первое из них назвали "малой шляпой", а второй – "большой шляпой". Позже выяснилось, что они оказались частями одного огромного месторождения. С этого момента в Коркино развернулось бурное строительство первых угольных предприятий. В историю вошел, например, знаменитый "Коркинский взрыв", готовившийся полгода и сопровождавшийся эвакуацией жителей. Отвалы горной породы из разреза занимают огромную территорию и вытянулись вдоль трассы М36 более чем на 25 км. Первыми строителями промышленного Коркино стали крестьяне из близлежащих сел, надеявшиеся найти здесь лучшую долю, чем в колхозе, спецпереселенцы из числа раскулаченных. Позднее к ним присоединились заключенные исправительно-трудовых лагерей, а в годы войны – трудармейцы – русские немцы, которых в большом количестве присылало ОГПУ, пленные и пособники фашистов, сосланные на Урал. Но были среди первостроителей и молодые энтузиасты-добровольцы, искренне рвавшиеся на новую важную стройку советского государства. Среди них свердловский маркшейдер Сергей Маслаков, рабочий московского завода Алексей Новожилов, машинист Павел Подкин, Павел Бражнов, Василий Потапов, Александр Гладышев, ставший родоначальником горняцкой династии. В этой плеяде была и моя бабушка Ермакова Пелагея Григорьевна, приехавшая как активистка на новое место с хороших земель, не побоявшись трудностей. Красавица с высшим образованием, заведующая элеватором, после смерти мужа на войне в 1943 году приезжает в Коркино развивать угольную промышленность, на тяжелые работы. Мстить фашистам за смерть любимого человека. Страна нуждалась в угле и работали ударно. Свекровь поняла и оставила мою маму, свою внучку, у себя в Лебяжье. Первые поселенцы рабочего поселка Коркино жили трудно – в землянках, палатках, бараках, многие – за колючей проволокой. До 1934 года снабжение проводилось по карточной системе. Но и позднее далеко не все продукты можно было свободно купить, а в Челябинск или в Еткуль спецпереселенцев не отпускали. Другим туда приходилось ходить пешком, поскольку транспортное сообщение отсутствовало. Самой обычной одеждой были фуфайки и кирзовые сапоги, в них ходили и на работу, и на свидания. Нередко после основной смены люди привлекались на дополнительные работы без оплаты – на строительство железнодорожного пути, водопровода, хлебозавода. Под строительство рабочего поселка, в котором жили строители угольных предприятий, выбрали площадку на левом берегу Чумляка в километре северо-западнее деревни Коркино. Основания для выбора были убедительными: располагалась она за пределами угленосной полосы, с подветренной стороны, удалена от разреза, и проводимые на нем буровзрывные работы были безопасны для жилых зданий и других сооружений. На выбранном участке началось строительство саманных жилых домов, шахтоуправления, клуба, школы, бани, больницы, столовой. Строительство жилого фонда началось самыми примитивными методами. Вначале оно было исключительно саманным и каркасно-засыпным. После того как выпустил свою первую продукцию коркинский кирпичный завод, были построены первые кирпичные дома. В 1932 году деревня Коркино была преобразована в рабочий поселок. Открытым голосованием был избран первый поселковый Совет, первым его председателем был избран Марк Богатырев. Вскоре было принято решение о переносе строительства ближе к разрезу. Застройку первой площадки стали называть Старым строительством – сейчас это поселок «Горняк». «Новое строительство» началось там, где сейчас проходит улица Терешковой. Тогда она называлась Отвальная. В числе первых зданий построили Красную столовую и клуб "Горняк". Это было здание барачного типа несколько улучшенной планировки. Перед войной западнее улицы Отвальной стали строить рубленые брусчатые дома. К началу войны строительство было доведено до восточной стороны проспекта им. Сталина (проспект Горняков). Западнее на открытой местности, в районе намечаемых построек, возвышались двухэтажные здания Красной школы и Белой школы. В районе, где сейчас стекольный завод, находилась контора треста "Коркиншахтострой", клуб "Строитель" и ряд жилых бараков. С годами поселок благоустраивался, прокладывались деревянные тротуары, водопровод, освещались улицы, озеленялись кварталы. В 1938 году появилось одноэтажное здание поликлиники, сейчас там – травматологическое отделение городской больницы. Благоустраивался и рабочий поселок Роза, где также как и в Коркино, жили угольщики. Суровым испытанием для шахтеров, горняков и строителей стали годы Великой Отечественной войны. В связи с временной потерей Донбасса и Подмосковного бассейна вся тяжесть снабжения промышленности Советского Союза топливом легла на плечи шахтеров восточных районов страны. Челябинские шахтеры в 1941 году добыли 6,3 млн тонн угля, но положение с топливом на Урале было критическим. Для резкого увеличения добычи угля необходимо было в кратчайшие сроки более плотно использовать имеющиеся мощности, построить десятки новых шахт и разрезов, освоить новые угольные месторождения, принять, разместить, накормить и научить шахтерским профессиям прибывающее пополнение. С целью более оперативного руководства и увеличения числа новых и реконструкции действующих шахт и разрезов в 1942 году были образованы комбинат «Челябинскуголь» и два шахтостроительных треста – «Челябинскшахтострой» и «Коркиншахтострой». В состав комбината «Челябинскуголь» вошли тресты «Челябуголь», «Копейскуголь», «Коркинуголь», «Еманжелинскуголь» и «Калачевуголь». Угольщики дали клятву работать, не покладая рук, чтобы давать угля столько, сколько потребуют все растущие промышленность и железнодорожный транспорт Урала. За период Великой Отечественной войны в Челябинском бассейне было добыто 46,12 млн т угля, в том числе шахтами 20,72 млн т, разрезами 25,4 млн т. В 1945 году по сравнению с 1940 годом добыча возросла в 2 раза, а по Коркинским разрезам в 3 раза. За трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны многие горняки Челябинского угольного бассейна были удостоены государственных наград. Бабушка выходит второй раз замуж за такого героя – шахтера с наградами, бывшего фронтовика, по ранению комиссованного из армии. Надо жить, любить и трудиться. И это я буду повторять постоянно. Она забрала мою маму из Лебяжье. После голодных военных будней и тяжелых работ её родившиеся близнецы умирают, слишком ослаблен был организм для рождения здоровых и сильных детей. Потом родился еще сын Виктор и сын Анатолий. Мамин отчим погиб на шахте от взрыва. Мама до поступления в техникум тоже работала на шахте – выдавала лампы шахтерам. Бабушке надо было помогать. Там в Коркино родилась и я. Из того раннего своего детства, года 3, постоянно всплывают детские ощущения и проходят перед глазами, просто проплывают яркожелтозолотые круги, как вспышки на темном фоне. Уже позже я узнаю, что это были пуговицы на папиной гимнастерке. Папа после взрыва на секретном военном объекте «Маяк» был комиссован из армии и работал в милиции, дома его почти не видели, а когда он приходил, я забиралась ему на колени и играла этими пуговками. Как говорила мама, меня было просто не оттянуть от него и его уход сопровождался громким детским ревом. Родители все время работали и мной занималась бабушка. Времена были трудные тогда, в памяти остались наряды, сшитые бабулей из старья.-чепчики с кружевами, штанишки -шаровары на резинке и платьица как колокола, расширяющиеся внизу. Таким широким подолом бабуля привязывала меня к своей юбке, чтобы я шустрая и быстрая не потерялась, так что я за ней, как нитка за иголкой и в огород, и в магазин, и к соседям. Впитывала я атмосферу послевоенную и узнавала многое не из чьих – то книг, а вот от женщин таких, переживших войну, потерявших людей любимых, детей, изработанных, изношенных лихолетьями войны. На могилах близких, на праздники собирались эти женщины русские, пили горькую, да оплакивали судьбу свою, исковерканною войной. А я, не понимая еще ничего, а рыдала вместе с ними. Так в 5 лет впервые услышала о Бандере, что это, кто это не соображала, но чувствовала сколько ненависти и страха в этих головах. Мы жили на 2 участке, в так называемых финских домиках. Их строили пленные финны по подобию своих – большие веранды, кладовая обязательно, кухня и столовая раздельны, большой зал и спальни. Очень высокое крыльцо. С обратной стороны такая же большая квартира. Вокруг еще большой участок с садом и на нашем еще большой прудик. Сталинский подарок. После войны семьи погибших фронтовиков и те, кто как моя бабушка, приехали развивать шахтерский городок, получили такие шикарные дома. Жили в них и работники охраны. С 1942 по 1956 год в поселке «Второй участок» при Коркинском угольном разрезе были размещены немцы-трудармейцы, занятые на работах в угольных шахтах, они жили в бараках. Рядом с шахтами и разрезом был лагерь для пленных фашистов и бандеровцев, которые должны были строить, и назывался «Второй участок», отсюда и название поселка. Известный историк и краевед Алексей Яловенко увлеченно работает над совершенно необычной летописью 12 лагерей военнопленных в Челябинской области и спецгоспиталя для их лечения. Эти материалы ранее нигде еще не печатались. В специальной литературе просто упоминались номера всего четырех лагерей НКВД для военнопленных под Челябинском. Алексей Федорович, как и мой папа, сумел собрать довольно подробную историю этих засекреченных и особо охраняемых объектов НКВД. И по его данным получается, что пленные стран гитлеровской коалиции участвовали на Южном Урале в строительстве множества поистине самых уникальных объектов. В том числе и сверхсекретного атомного проекта № 859 «Маяк», где служил и облучился мой папа. Сколько совпадений. Но помните, я вам всегда говорю – ничего случайного нет, все закономерно. В Муслюмово они, оказывается, готовили хранилище для погребения атомных отходов. Не один год интернированные лучшие немецкие ученые. в абсолютно секретных лабораториях на озерах Миассовом и Сунгуле, работали с легендарным академиком Тимофеевым-Ресовским. Это были важные работы, ведь американцы готовили атомную бомбу именно на СССР. И если – б мы не успели сделать свою, то были бы не Хиросима и Нагасаки, а Москва и Ленинград. Советская разведка работала четко. Берия ускорил работы по созданию бомбы. Им был реабилитирован Сергей Королев. Немецкие военнопленные в большом количестве к зиме 1943 года, после Сталинграда. Только по официальным данным, за годы войны в руки бойцов Красной армии попало 3 млн 486 тысяч военнослужащих германского вермахта, войск СС, а также граждан стран, воевавших в союзе с Третьим рейхом. Оказывается, все страны Европы воевали с Гитлером против нас, не воевали против СССР только Греция и Югославия. Даже Швейцария нейтральная помогала Гитлеру, прикрываясь красным крестом, но не помогала СССР. Кого только не было в этих лагерях. А теперь они претензии предъявляют за своих погибших. А давайте спросим их – зачем они пришли на нашу землю? Разумеется, их всех нужно было где-то размещать. Уже в 1941 году усилиями сотрудников Главного управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ НКВД СССР) начали создаваться лагеря, где содержались бывшие солдаты и офицеры немецкой и союзных Гитлеру армий. Всего таких учреждений насчитывалось свыше 300. Они, как правило, были небольшими и вмещали от 10 до 3 – 4 тысяч человек. Одни лагеря существовали год и более, другие – всего несколько месяцев. Первым в Челябинской области, да и, пожалуй, на всем Урале, 14 октября 1942 года был организован Кыштымский производственный лагерь военнопленных НКВД, порядковый номер 95. Сквозная нумерация лагерей для военнопленных в то время еще не была выработана, и номера были временными. В дальнейшем, уже в 1944 году, этот лагерь влился в другой, под № 180, управление которого к тому времени тоже находилось в Кыштыме и который, в свою очередь, был организован на основании совершенно секретного приказа НКВД СССР № 001248 от 10 октября 1944 года. Скорее всего, лагерь № 95 впоследствии стал лагерным отделением № 1 разросшегося лагеря № 180. Архивы НКВД – «Продуктами питания и спецодеждой лагеря, как и положено, снабжались по нарядам Главного управления лагерей военнопленных НКВД СССР. Немцы и их союзники получали в сутки по 400 г хлеба (после 1943 года эта норма выросла до 600 – 700 г), 100 г рыбы, 100 г крупы, 500 г овощей и картофеля, 20 г сахара, 30 г соли, а также немного муки, чая, растительного масла, уксуса, перца». Это в то время, как страна голодала. Кстати у генералов, а также солдат, больных дистрофией, суточный паек был побогаче. Продолжительность трудового дня пленных составляла восемь часов при четырех выходных днях в месяц. Сон не менее восьми часов в сутки. А наши женщины и дети засыпали у станков, работая на победу. «Согласно циркуляру НКВД СССР от 25 августа 1942 года они имели право на небольшое денежное довольствие. Рядовым и младшим командирам выплачивалось 7 рублей в месяц, офицерам – 10, полковникам – 15, генералам – 30 рублей. Военнопленным, которые трудились на нормированных работах, выдавались дополнительные суммы в зависимости от выработки. Перевыполняющим нормы полагалось 50 рублей ежемесячно. Те же дополнительные деньги получали бригадиры. При отличной работе сумма их вознаграждения могла вырасти до 100. Деньги, превышающие разрешенные нормы, военнопленные могли хранить в сберкассах» -из тех –же документов. Кстати, они имели право на получение денежных переводов и посылок с родины, могли получать одно письмо в месяц и отправлять неограниченное количество писем. Кроме того, им бесплатно выдавалось мыло. Если одежда находилась в плачевном состоянии, то пленные получали даром телогрейки, шаровары, теплые шапки, ботинки и портянки. А как наших солдат они держали в концлагерях, еще и в печах жгли. Американцы и англичане тоже далеко не ушли от немцев. Вот что поведал капитан Французской Армии, прибывший 27 июля 1945 года в американские лагеря, расположенные в окрестностях Дитерсхайма, для конвоирования немецких военнопленных во Францию. Он сообщил, что «…вся территория лагеря являла собой грязную землю, населённую живыми скелетами и заваленную трупами. Там же были немки и дети, которые лежали в ямах, прикрывших картоном». По его словам, всё это напоминало фотографии Дахау и Бухенвальда.