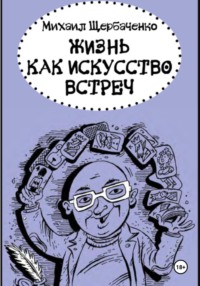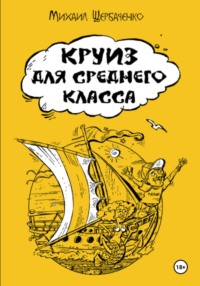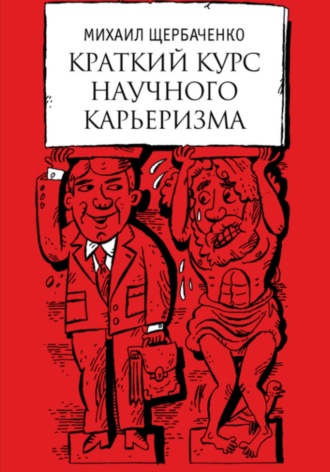
Полная версия
Краткий курс научного карьеризма. Пособие для молодого чиновника
Так вот, имеет смысл заблаговременно выдвинуться на персональном автомобиле (если его нет, номер теряет смысл) к месту сбора, но затаиться где‑нибудь поблизости. И когда мимо вас пронесутся машины с замами и станет ясно, что вот‑вот прибудет босс, выкатывайтесь и лихо тормозите у ног почетного караула. Водитель распахнет вам заднюю дверь (крупные шишки всегда сидят сзади по диагонали от шофера, не перепутайте), и вы, радостно скаля зубы, поприветствуете ошалевших от такой наглости начальников.
Не спорю, дело рискованное, можно и нарваться, но ведь вы же актер! Вы азартный и целеустремленный лицедей. Вы приучаете публику к тому, что в вас скрыта какая‑то тайна. Что вы имеете право вести себя именно так, а не иначе.
Как говорил знаменитый гастролер Мамонт Дальский, разъясняя партнерам мизансцены «Гамлета»: «Легко запомнить, господа: я в центре, вы по краям».
Слова просит цицерон
Интересно ли вам слушать публичные выступления руководителей? Если нет, тогда не тратьте время на эту главу. Если же речь официального лица рождает живой отклик (усмешку, гримасу, зависть и пр.), давайте поразмыслим об ораторских качествах чиновников. Опустим не столь уж давние времена, когда косноязычие руководителя демонстрировало правильное происхождение, а, к примеру, южное фрикативное «гэ» подчеркивало принадлежность к правящему землячеству. И случалось, что весьма культурные люди, наступив на горло собственному докладу, переставляли ударения, перемешивали падежи и ломали фонетику, дабы не вызывать раздражения коллег и начальства.
Настали иные времена, пришли иные тренды. Еще звучат на просторах родины «осужден» и «нежели чем», но надобно признать, что первые лица государства установили новый культурно‑коммуникативный ценз, которому широкие массы руководителей по мере сил пытаются соответствовать. Честолюбивые люди увидели в красивой, грамотной, образной манере изъясняться ресурс для карьерного роста. И теперь иные государственные чиновники берут уроки по технике речи и актерскому мастерству, а тексты для них сочиняют букеровские лауреаты.
И ведь дело того стоит. Автору известен один человек с грандиозным ораторским дарованием. У него, как говорится, Цицерон с языка слетает. Он не появляется на телеэкране, ему это незачем, но на представительных заседаниях, где распределяют бюджеты, этот персонаж широко известен. Природный дар златоуста, умение убеждать и личное обаяние – эти невесомо‑эфемерные качества доставляют его странным проектам очень даже увесистые суммы финансирования.
Кто‑то делает из словесного воздуха деньги, кто‑то раздувает свой административный масштаб, каждому – по способностям. Иной раз поиск изысканной фигуры речи рождает поистине выдающиеся сюжеты. Ярчайшим из них мне видится выступление одного губернатора, прибывшего на церемонию вступления в должность другого губернатора.
Губер‑гость очень серьезно готовился, ему важно было задружиться с губером‑хозяином, ставленником высших сфер, по слухам, нацеленным на пост крупного федерального руководителя. Две недели лучшие спичрайтеры области писали приветственный панегирик, но шеф все варианты браковал: не было «фишки». И вот когда он просматривал свой деловой ежедневник, глаз остановился на дате предстоящего торжества. Это было 9 января. В мозгу произошла вспышка, и в небе зажглись алмазы.
На инаугурации речь губера‑гостя следовала сразу за выступлениями столичных грандов, что придавало ей особый вес. И наш герой не подкачал.
– Целый век 9 января считалось в России датой скорби, кровавым воскресеньем, – начал он таинственным полушепотом, и переполненный зал замер. – Именно в этот день в далеком 1905 году в Санкт‑Петербурге была расстреляна мирная демонстрация рабочих. (Лица зрителей вытягиваются, голос оратора набирает силу.) Но сегодня наконец этот день обрел противоположный смысл, окрасился радостью, светлой верой в то, что худшее безвозвратно миновало (мощный голос взлетает над залом), и один из крупнейших регионов возглавил истинный лидер и патриот страны, которую больше не собьют с пути происки попов Гапонов!
Зал лишился сознания, президиум оцепенел. После паузы губер‑хозяин подошел к трибуне и смачно расцеловал коллегу. Очнувшиеся зрители зашлись в овации.
Речь произвела фурор. Ее передали по нескольким телеканалам и откомментировали чуть ли не все СМИ, она сотрясла Интернет. Говорят, ее даже обсудили в Кремле и после дискуссии порешили оратора не наказывать. Но и не повышать. Все же чересчур речист.
На кого же вы похожи
Как известно, живущие вместе человек и собака с годами становятся похожи друг на друга. Остается вопрос, кто именно «идет на сближение», – то ли пес обретает черты хозяина, то ли наоборот. Впрочем, не исключено и встречное движение.
В мире чиновников этого вопроса не существует вовсе. Даже при долгой совместной работе начальник никогда не станет похожим на подчиненного, а вот обратный вариант вполне реален. Причем иной раз нижестоящий сознательно добивается сходства с шефом.
Вы спросите, в чем тут смысл, и я охотно поделюсь наблюдениями за таким человеком, с которым знаком немало лет и который бывает со мной откровенен.
Однажды на его карьерном пути возникла ситуация, когда над ним возвышался по‑настоящему сильный, харизматичный руководитель, а в прямом подчинении находился чуждый трудового усердия аппарат. Расчет чиновника был прост и логичен: поскольку перед большим начальником трепетали все от мала до велика, нужно было добиться знакового сходства с ним и таким образом внушить вверенному болоту, что ты – наместник Самого. Каждое твое слово, каждый жест идет от него. Соответственно, неповиновение тебе, руководителю среднего звена, – суть неповиновение Самому. Со всеми вытекающими.
Первым делом мой знакомый скопировал рукопожатие шефа. Оно было мало сказать вялым, – возникало ощущение, будто тебе в ладонь вложили пустую перчатку. Пожимать руку приходилось крайне осторожно, что сразу устанавливало субординацию. При этом начальник отводил глаза и нос в сторону, будто вид твой был ему неприятен, а запах просто непереносим.
Потом началась работа над голосом. Шеф говорил очень тихо, поэтому слушатели не то что не шептались, – они боялись собственного дыхания. А когда наступал черед распеканий и разносов, начальник вообще переходил на змеиный шепот. Эффект воздействия усиливался тем, что он, «тыкая» всем без исключения, в минуты казни обращался к жертве на «вы», чем повергал ее в мистический ужас.
Освоив голосовую технику, наш герой перешел к манере вести диалог. У шефа был такой приемчик: во время беседы с подчиненным он долго говорил, потом раз – и замолкал, задумавшись. Собеседник, полагая, что начальник ожидает его мнения, осторожно произносил: «Мне кажется…»
Но большего сказать не успевал, потому что резко вступал шеф и, глядя мимо испуганно замолчавшего сотрудника, продолжал вещать. До следующей паузы. А потом все повторялось. Беседу завершал рефрен: «Идите и думайте». Люди выходили в поту.
Следом был разучен еще один номер из репертуара начальника: каждое утро звонишь наугад кому‑нибудь из подчиненных и говоришь: «Думаешь, я не знаю, что там у тебя происходит? По‑твоему, я буду это терпеть?» – и вешаешь трубку.
В общем, шаг за шагом наблюдательный и способный к подражанию мой знакомый принимал образ и подобие своего начальника. Иногда ему даже казалось, что он и есть Сам. Смущало лишь то, что дела в его хозяйстве шли все хуже. И подчиненные вели себя необъяснимо: в ответ на вялое рукопожатие некорректно сдавливали руку, перебивали тихие руководящие монологи хихиканьем и трепом, а один из заместителей, услышав: «Идите и думайте», ответил: «И вы тоже идите».
Наш герой терялся в догадках. Ясность внесла секретарша, которая работала с ним много лет и без труда считывала смысл его поступков.
– Бросьте вы это дело, – рубанула она. – Даже если загримируетесь под Самого, все равно не сработает.
– Что, масштаб личности не тот? – упал духом имитатор.
– Масштаб должности, – пояснила секретарша. – Ему – можно. Он шипит – и людям страшно.
Она уклонилась от сравнения и вышла. Шипеть вслед не имело смысла.
Шире округ!
Искатель чинов, уже усевшийся или еще карабкающийся на одну из трех главных ветвей власти, должен уметь работать с теми, кто занимает ветвь четвертую. То есть с масс‑медиа. Это правило Матвей Самсонович, префект административного округа крупного города, умом понимал, но, будучи по характеру человеком непубличным, терялся при виде телекамер и диктофонов, да и вообще прессу не любил.
А полюбить следовало, потому что мэр города потребовал от префектов наладить работу с населением через вверенные им СМИ. В распоряжении Матвея Самсоновича имелись еженедельная газета, которую никто не читал, и студия кабельного телевидения, передачи которой никто не смотрел. Требовался сильный, общественно значимый ход, за который можно будет отчитаться перед мэром.
Такой ход был найден пресс‑секретарем префекта, он предложил создать на окружном телевидении еженедельную программу, в которой жители в прямом эфире задают префекту наболевшие вопросы (естественно, подготовленные), тот либо отвечает сам, демонстрируя исчерпывающую компетентность, либо требует к ответу чиновника префектуры и в режиме онлайн устраивает ему разнос. Идея была проверенная, демократическая, смущало одно – робость Матвея Самсоновича. Нужен был сильный, опытный ведущий. Пресс‑секретарь пообещал найти такового в Москве, в конце концов не все там Познеры и Кати Андреевы, кто‑то и без дела томится.
Без дела томился Кавалеров. Некогда он работал комментатором на одном из центральных каналов, но внезапно исчез с экрана. По слухам, явился на прямой эфир в сильном подпитии и угробил программу с вице‑спикером Госдумы, за что был изгнан вон и с тех пор пребывал в качестве «джентльмена в поисках десятки», как выражался тов. О.Бендер. Однако физиономия его, которую некогда знала вся страна, сильно измениться не успела и могла придать окружной передаче масштабный, даже федеральный размах.
Кавалерова привезли к Матвею Самсоновичу, который с ходу пообещал хорошие деньги, стометровую квартиру и полный набор социальных благ. Столичный гость для вида поломался, но, получив дополнительный бонус в виде земельного надела у реки, дал согласие.
Первым делом гость придумал название передачи. Вспомнив некогда знаменитую программу «Шире круг!», он трансформировал ее в «Шире округ!». Затем Кавалеров поработал с префектом, объяснив ему, что много говорить не надо, ибо слово царя должно звучать «во дни торжеств и бед народных», а публицистическое звучание передачи обеспечит ведущий. Мысль насчет царя префекту понравилась.
Передача пошла. Истосковавшийся по эфиру Кавалеров блистал, как в лучшие годы. Жители округа потянулись к экранам. Пресс‑секретарь доложил префекту, что рейтинг программы неуклонно растет, хотя чем он его измерял, не объяснил. Однако прошло полгода, и «Шире округ!» стал меняться. То есть схема оставалась прежней, но акценты сместились, и уже не Матвей Самсонович был верховным жрецом. Он превратился в статиста, главную же роль, как вы догадались, присвоил звездный Кавалеров, и теперь он, а вовсе не префект, успокаивал обеспокоенных жителей и покрикивал на нерадивых чиновников.
Такая перемена не осталась незамеченной. Префекту нашептывали, что столичная штучка хоронит его авторитет. Пресс‑секретарь попытался повлиять на Кавалерова, но тот только глянул на него, как солдат на вошь, и заискрил пуще прежнего. В итоге дошло до того, что мэр, посмотрев передачу, сказал Матвею Самсоновичу: «Я не понял, кто управляет округом – ты или этот московский перец? Может, вам поменяться?» Это могло значить только одно: до пропасти остался шаг.
И тогда пресс‑секретарь, умевший читать мысли шефа, нашел выход: перед эфиром накачал Кавалерова до такой степени, что даже телезрители почувствовали, как от их экранов разит коньяком. Увольнение было стремительным, о чем Матвей Самсонович тут же доложил мэру. Квартиру и землю оформить на Кавалерова не успели, так что обошлось без потерь.
Тридцать три богатыря
В некотором царстве, в областном государстве жила‑была дума. Она, собственно, и сейчас живет, а сказочный зачин избран автором лишь для того, чтобы донести до читателя былинную силу представленных в той думе тридцати трех избранников. Хотя по нерушимым своим убеждениям разделились они на четыре неравные фракции и следовали партийной дисциплине, каждый депутат мнил себя если не первым среди равных, то уж, во всяком случае, не вторым.
И вот однажды замаячила на горизонте важная дата – пятнадцатилетие славного органа законодательной и представительной власти. И пуще прежнего оживились депутаты, стали думать да гадать, как покрасивее напомнить о себе избирателям, а заодно и первым лицам родной дотационной области. Тут, уловив запах бюджетных субсидий, в думу обратилась местная киностудия, предложив снять к юбилею документальный сериал о думе и ее значении в развитии российского парламентаризма. Каждый депутат тут же представил себя на экране местного, а если повезет, и центрального телеканала, и своевременная, патриотичная инициатива была одобрена.
Законодатели незамедлительно обратились с просьбой о финансировании актуального проекта к дружественной исполнительной власти, и та выделила деньги. Не особо большие, рассудив, что негоже поднимать до небес депутатское собрание. Киностудия погрустила, пересчитала бюджет с учетом собственных аппетитов, получался фильм на сорок минут. Слабовато, но все же лучше, чем ничего.
Налетели злые коршуны и разнесли слух, что на экран попадут не все депутаты, предпочтение отдадут членам главной партии, а оппозиция, без которой конечно же немыслимы законодательный процесс и демократические преобразования, будет представлена в картине только лидерами фракций. Гадкий слух оказался былью. Несогласные потребовали, чтобы окончательный вариант фильма утверждался на общем заседании думы, и добились‑таки своего.
Скоро сказка сказывается… да, собственно, и юбилейный фильм сделали по‑скорому. В назначенный день и час в думский кинозал явились все без исключения депутаты. Просмотр картины сопровождался выкриками с мест и завершился долгим пронзительным свистом. Потом началось закрытое обсуждение, и тут случились совсем уж неожиданные вещи. Обиженная оппозиция еще не успела рта открыть, как вознегодовали депутаты, чьи говорящие головы как раз были представлены в фильме. Их решительно не устраивало все – от выбранного оператором ракурса, искажающего благородный облик, до оскопленных режиссером монологов о личных законодательных заслугах. Напрасно авторы картины пытались объяснить, что невозможно в сорокаминутную ленту вместить все синхроны думцев, равно как нереально представить всех без исключения тридцать трех богатырей. Последние слова вызвали гнев игнорированных законодателей, которые обвинили главную партию в политических интригах и узурпаторских замашках.
После двухчасовой перебранки, в которой звучали слова: «триллер», «ералаш» и даже «жесткое порно», постановили: картину в свет не выпускать как дискредитирующую областной законодательный орган. Один из депутатов попытался возразить в том смысле, что нельзя хоронить фильм, снятый на деньги налогоплательщиков, другой прокричал, что действия коллег сильно смахивают на цензуру, но обоих смутьянов зашикали.
Тут и сказке конец. Кино положили на полку, и пошла гулять по дотационной области молва, будто депутаты сделали смелый антикоррупционный фильм, а лютые вороги запретили показ. Что, в общем‑то, стало неплохой предвыборной агитацией.
Две полярные звезды
Кто понимает истинную роль женщины, состоящей на госслужбе, тот никогда не скажет «руководительница». Строжайшее табу! В немецком языке можно, не ранив самолюбия, показать окончанием слова, к какому полу принадлежит представитель профессии; это вам не русские «врачиха» и «продавщица», тем более не «чиновница». Так что мы говорим исключительно о женщине с мужской профессией. Или, если угодно, о руководителе женского рода.
Прокручиваю в памяти созвездие высокопоставленных дам, с которыми знакомила судьба, и наиболее отчетливо вижу две яркие точки. Две звезды, две светлых повести. Насколько полярные, настолько и близкие. Зовут их Ирина и Марина, отчества и громкие титулы опускаем, возраст – от сорока до пятидесяти. Судьба сделана, но до финиша еще далеко.
Ирина на заре своей карьеры услышала фразу: «Для руководителя главное не знания и опыт, а сильный характер». Мысль стала путеводной. Руководить Ирина хотела всегда, цели быстро достигла, а силу характера закаляла и демонстрировала своим сотрудникам посредством натиска, агрессии и хамства. Естественно, она с самого начала понимала, что такого начальника будут ненавидеть и при возможности подставлять, но пошла на это «с отвагой и весельем победителя». Ради того, чтобы подчинить подчиненных, она истребила в себе главную женскую мотивацию – желание нравиться. Она не нравилась даже себе, но и это ей было безразлично.
Марина, также устремленная в руководящие выси, душить в себе «основной инстинкт» не собиралась. Ее гербом мог бы стать усыпанный розами танк. Она умела расхвалить подчиненных, даже польстить им, если того требовали обстоятельства, и они пахали на нее с удовольствием и предвкушали награду, которую всегда получали. При этом Марина обладала талантом преподнести поощрительную безделушку с той помпой, с какой дарят ключи от райских врат. Ей доверяли, ей симпатизировали, ею дорожили, ее даже любили, если можно чувство к руководителю назвать любовью, и она заливала это топливо в бензобак того самого танка, который тащил ее вперед и выше.
Обе руководящие дамы выбрали маски. Ирина орала матом на подчиненных ей взрослых мужчин, и те терпели. Как‑то нашелся храбрец, который огрызнулся и швырнул заявление об уходе, так она увела его в кабинет, наедине уговорила остаться, слегка повысила и впредь лупцевала пуще прежнего. Однажды Ирина не отпустила с пустяшного совещания сотрудника, которому нужно было в больницу проститься с умирающей женой. Она знала, куда он отпрашивается, и все это знали. Но маска злодейки приросла.
Маринина маска позволяла сотрудникам обращаться с ней как с истинной женщиной: пытаться разжалобить, оправдаться, упросить и, наконец, попросту навесить на уши лапшу. И она, понимая эти штучки, иногда позволяла обставить себя. Но только по мелочам. При первой же попытке одного из заместителей сесть на шею она при всех показала ему танковый ствол. Присутствующие поняли, и броня мгновенно скрылась под кустами роз. Марине не нужны страх и озлобленность окружающих, ей требуется их лояльность.
К чему автору пришли на ум эти женщины‑антиподы? А к тому, что в главном они удивительно схожи. Обе по‑крупному амбициозны, безумно дорожат своим местом, трудоспособны до потери пульса. И как руководители стопроцентно эффективны, поэтому начальству невыгодно их менять, а подчиненным нет смысла им перечить. Обе понимают, что единожды ступив на руководящее поле, где пасутся мужские стада, они лишили себя права хоть в чем‑то оказаться слабее. Тема тяжелой женской доли в аппаратных играх не прокатит.
Одно слово, родственные души. Хотя они даже не знакомы.
Качайте маятник и наслаждайтесь
На строительстве школы нервно – ждут префекта, вероятен разнос. А вот и он сам в центре суетливой свиты. Шаги неспешны, взгляд в землю; что задумал, непонятно. И вдруг, не поднимая головы: «Василий, у тебя шнурок развязался».
Идущий в свите мелкий клерк каменеет. Шнурок ботинка и в самом деле развязан, но главное, префект помнит имя Василия. Мало того: Сергей Максимович идентифицирует его по ботинкам, а ведь на пустого, никчемного человека он бы вообще глядеть не стал, пусть у того хоть шнурок развяжется, хоть штаны свалятся. Наконец, префект не иначе как сознательно дает понять окружению, что уж кого‑кого, а Василия он помнит, ценит и в обиду не даст.
Через неделю парня уволили. По пустячному поводу. Удавили шнурком.
Ну и ладно, сказали в префектуре, не первый и не последний. Все давно знали, что их начальник – редкой души сукин сын. Это стало ясно еще четыре года назад, когда Сергей Максимович получил назначение в округ. В первый же день он объявил кадровику: «Каждое утро ты должен приносить мне чью‑то голову». Дороживший собственным скальпом кадровик все понял, и головы полетели. Это была не новая метла, а гильотина. Казнь могла настичь любого, и даже самые битые аппаратчики сказали: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».
Через пару месяцев, однако, репрессии разом прекратились, начальник стал приветлив и либерален, и чиновники постановили: все, кровушки напился, теперь можно жить. Но они не знали, что попали в сеть управленческой системы, которую Сергей Максимович создал еще в начале своей карьеры. Идея состояла в том, чтобы лишить всех без исключения подчиненных сна и покоя. Вечная неуверенность должна разливаться в воздухе, поражая служащих нервно‑паралитическими флюидами.
Правда, для достижения успеха пришлось истребить в себе сочувствие к ближнему и чувство справедливости, стать натуральным говнюком, но цель оправдывала ломку гуманной от рождения натуры Сергея Максимовича.
Прочитав в молодости книгу Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», наш герой перенял метод старшего лейтенанта Таманцева. «Качание маятника» означало непрерывные обманные движения, дезорганизующие и вводящие в заблуждение противника. Творческое перенесение военных приемов на мирную с виду госслужбу вполне удалось.
Префект мог прилюдно расхвалить подчиненного, даже превознести, но это означало лишь то, что строго в отмеренный срок человек будет столь же публично выпорот. Причем мера устрашения, как правило, превосходила меру поощрения. Аутодафе было изнурительно долгим, с вкраплениями матюгов и мучительными для казнимого паузами.
На вооружении префекта состояло много проверенных инструментов. Стравливание коллег и поощрение взаимных доносов. Приближение «к телу» и отторжение от оного. Отрубание кошке хвоста по частям. Особым шиком Сергей Максимович считал увольнение вскоре после пышно отпразднованного юбилея.
Скажем честно: ничего нового для мировой теории и практики управления наш герой не создал. Но фокус в том, что погоняемая его иезуитским хлыстом префектура работала организованно, точно и результативно. Не исключено, что двигатель проработал бы еще долго, но этого мы уже не узнаем. Потому что мэр города после очередного пышного панегирика в адрес префекта отправил его в отставку. Возможно, градоначальник тоже уважал старшего лейтенанта Таманцева.
Урок обольщения
Лестница в небо

Как бы коллеги ни относились к Альберту Андреевичу (а большинство на дух его не выносило), никто не отрицал его редкостной способности строить отношения с окружающим миром и населяющими его руководителями. Страдая неисполнительностью, забывчивостью и склонностью терять важные бумаги, он с запасом компенсировал эти гибельные для чиновника качества умением соответствовать обстоятельствам.
Начальники областного комитета по связям с общественными организациями, где работал наш герой, сменялись быстро. За шумные, неприятные руководству скандалы, устроенные союзом солдатских матерей или лигой борцов за права животных, можно было потерять должность с точной и, главное, объективной формулировкой: не сумел договориться.
С другой стороны, получившие одобрение акции типа съезда ветеранских организаций, слета неформальных объединений с неизбежными, но минимальными телесными повреждениями или переговоров лидеров национальных диаспор о курировании продуковых рынков могли переместить начальника комитета в более фундаментальное кресло.
Что‑то в этом роде и происходило с шефами Альберта Андреевича, в итоге за два с половиной года сменилось четыре начальника. Однако каждый из них успел повысить в должности нашего героя.
Первый начальник заприметил скромного ведущего специалиста на встрече с представителями профсоюзов. Руководитель комитета, который давно и прочно дружил с Бахусом, не мог не оценить, с каким проворством молодой сотрудник откупоривает емкости и наполняет рюмки, внося конструктивную ноту в переговорный процесс. С того дня Альберт Андреевич неизменно сопровождал шефа на подобных мероприятиях, а во время нечастых передышек дотемна засиживался с ним в кабинете, не забыв положить в холодильник чешское пиво на утро. Так ведущий специалист, прыгнув через ступеньку, стал заведующим отделом.
Второй начальник был помешан на брендовой одежде, и Альберт Андреевич организовал командировку в Милан – ознакомиться с практикой взаимодействия с ассоциацией таксистов, устраивающих забастовки по любому поводу. Изучение опыта шло на улицах Спига и Монтенаполеоне, знаменитых скоплением одежных бутиков. По возвращении заведующий отделом стал заместителем начальника управления.