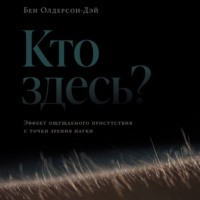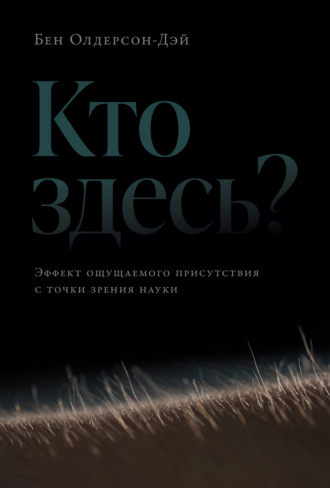
Полная версия
Кто здесь? Эффект ощущаемого присутствия с точки зрения науки
Он описывает ощущение, что, помимо всего прочего, кто-то или что-то дергает его за ниточки. Кто-то организует все в его жизни, посылает голоса в ответ на какие-то прегрешения. Все они направлены на достижение определенной цели, которая составляет часть какого-то великого плана или замысла. И Алекс, даже если не вполне смирился с этим, принимает такую идею. Это его успокаивает: по крайней мере, кто-то контролирует ситуацию.
К третьему нашему разговору голоса Алекса не сильно изменились, хотя голос сердитого мужчины теперь стал тише и отдалился. Раньше он время от времени «сверялся» с женским голосом, но теперь это происходит реже. В ответ на мой вопрос Алекс рассказывает, что сейчас он по ощущениям гораздо лучше контролирует происходящее, – мой собеседник связывает это с тесной работой со своим психотерапевтом, клиническим психологом из местной организации NHS.
В конечном итоге мы переходим к обсуждению ощущения присутствия. В конце третьего и последнего интервью в рамках нашего исследования возникла тема голоса, который можно почувствовать, но не услышать. Ранее пациент упоминал об этом вскользь, без подробностей. Втайне я испытываю облегчение, когда он возвращается к этому вопросу в конце разговора: мне хотелось понять эту ситуацию правильно (или, по крайней мере, несколько лучше). В результате мое любопытство разгорается еще больше. Беззвучный голос; присутствие само по себе.
«Лучше всего я могу описать это как "мурашки по коже" – чувствуешь их сзади на шее, – говорит мой собеседник. – Я даже не пытаюсь рассказать об этом во время бесед с психотерапевтом, настолько это странно. Я думал, такого ни у кого нет. Вот узнаешь о том, сколько людей слышат голоса, и это помогает – но все кажется просто странным. Я даже не знаю толком, как это описать».
При этом он качает головой. Как описать голос, если его не слышишь, а лишь ощущаешь его присутствие? Алекс попытался, но было ясно, что он не удовлетворен своим описанием.
Для моего собеседника близость голосов не была комфортной: наличие голоса рядом не похоже на желанное присутствие друга детства или регулярное появление соседа. Это больше походило на явление призрака, какого-то неуправляемого духа, прицепившегося к личности Алекса. Мне было интересно, останется ли такое ощущение присутствия голоса навсегда. Если голос просто находится рядом, даже когда почти перестал говорить, сохранится ли ощущение, что кто-то здесь есть? Словно этот кто-то постоянно заглядывает вам через плечо или стоит слишком близко?
На этом мы с ним и остановились; это было последнее, о чем он пытался рассказать, помимо всего прочего. Мы перешли от голосов к грандиозным планам и к безмолвному присутствию. Это последнее ощущение было самым тяжелым, самым странным, самым тревожным. Именно здесь слова у Алекса внезапно просто закончились.
На самом деле я уже слышал, как об этом рассказывали раньше.
ДЭНИЕЛВ конференц-зале светло и просторно. Здесь царит суета; одни люди шумно приветствуют друг друга – они явно знакомы, другие скромно стоят в сторонке и ждут, пока с ними заговорят. Я отношусь к последним и сажусь недалеко от двери, спиной к стене. Напротив меня оказывается молодой человек с аккуратной бородкой и волосами торчком. У него мощные накачанные руки, на стуле он сидит наклонившись вперед, словно готов вскочить в любой момент, а равновесие удерживает лишь кончиками пальцев ног. Как и я, он пока толком ни с кем не разговаривает, только улыбается, здоровается и изредка задает вопросы.
Я преимущественно помалкиваю, потому что я тут новенький. Я провожу научные исследования в рамках постдокторантуры – это часть академической карьеры, которая идет сразу после получения ученой степени, но до перехода на постоянную должность, например преподавателя. Моя диссертация была посвящена аутизму, и я заинтересовался проблемами языка и разума: как мы разговариваем сами с собой и как это может влиять на наше мышление и психическое здоровье. Поэтому меня заинтриговал новый проект Даремского университета «Слышание голосов» – эта инициатива, финансируемая благотворительным фондом Wellcome Trust, направлена на более глубокое изучение слуховых галлюцинаций. Проект привлек мое внимание тем, что исследования предполагалось вести нетрадиционным способом – опираясь на идеи и методы из разных областей, привлекая не только психологов или психиатров, но и, например, специалистов по философии и религиоведению. В студенческие годы я немного изучал философию, и мне хотелось посмотреть, как это будет работать на практике.
Когда все расселись по местам, первое, что я замечаю, – люди не перемешались. Как школьники на игровой площадке четко разбиваются по ранее сформировавшимся группам, так и мы в этом зале примерно группируемся по дисциплинам: уголок литературоведения, парочка философов, специалист по древней истории рядом с медиевистом. И одинокий молодой человек напротив меня.
«Благодарю и приветствую всех, – говорит организатор. – Мы не будем называть всех участников, но на сегодняшнем заседании я хотел бы отдельно поприветствовать Дэниела. Дэниел приехал из реабилитационного центра Recovery College. Добро пожаловать, Дэниел».
Участники одаривают гостя улыбками, кивками и невнятными приветствиями. Recovery College – это образовательный центр в соседнем городке для людей, которые испытывают проблемы с психическим здоровьем. Дэниел находится здесь с нами, потому что он – слышащий голоса (этот термин предпочитают использовать многие люди, которые слышат голоса в течение долгого времени). Его попросили принять участие в семинаре не в качестве докладчика, а как участника; с докладом сегодня выступает другой человек. Однако Дэниел очень обаятелен и открыт – он с самого начала участвует в обсуждении, а также отвечает на все наши неудобные вопросы. Вскоре заседание принимает форму «вопрос-ответ», а Дэниел становится его ведущим.
Тема голосов предполагает множество интерпретаций. В отдельные эпохи и в некоторых культурах такой опыт считался не симптомом болезни, а возможным признаком вдохновения или откровения. Еще в начале XX в. отношение к необычным галлюцинаторным переживаниям было гораздо более неоднозначным, чем сегодня, согласно современным представлениям они в целом считаются патологией. То, как мы думаем о необычных переживаниях, определяется временем, в котором мы живем, поэтому следует рассматривать их не с одной точки зрения. В последнее время представления о слышании голосов – это смешение психиатрии, психотерапии, нейронауки и философии.
Многие люди в зале впервые встретились с человеком, который слышит голоса. У всех к нему разные вопросы. Предчувствует ли Дэниел, когда голоса начнут говорить? Наверняка есть какие-то движения или перемены в окружающем мире, которые предваряют их появление? Воспринимает ли Дэниел голос как персонажа какой-то книги? Может ли он представить его? Какова его предыстория?
Я употребляю единственное число, потому что Дэниел четко понимает, что слышит один главный голос – мужской, по-армейски командный, который комментирует его повседневные мысли и действия. Дэниел не так давно вышел в отставку, и после завершения военной службы его переживания усугубились. Позже я узнал, что он всегда садится, чтобы видеть дверь, как это было и сейчас в конференц-зале. Дэниел может мысленно представить этот голос. Он не уверен, был ли этот образ всегда, или он с ним в какой-то момент познакомился; неясная фигура, вырисовывающаяся из команд и окриков в его голове. Он утверждает, что голос приглядывает за ним, но также критикует и высмеивает – иногда безжалостно. Он существует так давно, что, по словам Дэниела, его собственные мысли иногда переплетаются с голосом. Бывает трудно понять, кто из них что сказал и кто что подумал.
Дэниел – прирожденный рассказчик. Мы беседуем уже полчаса, может быть, больше, и я вижу, что организатор хочет двигаться дальше. Я мысленно спрашиваю себя, не нужен ли Дэниелу перерыв и стоит ли его так донимать. Любопытство с благими намерениями может зайти слишком далеко, а Дэниел здесь не для того, чтобы становиться объектом исследования. Мои размышления прерываются фразой Дэниела:
Знаете, иногда вам даже не нужно его слышать – иногда вы просто знаете, что он здесь.
Просто здесь. Что это значит? Ни звука, ни образа – он просто присутствует здесь. Дэниел может описать, как, по его мнению, выглядит этот голос – в полном военном облачении, но он не имеет в виду, что видит его таким. Он имеет в виду нечто более базовое, нечто неделимое. Голос, который присутствует здесь, и он только здесь.
Ученые, сидящие в зале, пользуются возможностью и просят разъяснений. Дэниел вежливо и терпеливо отвечает на новые вопросы, а иногда просто пожимает плечами. Это кажется важным – смещение фокуса, изменение параметров. Такое ощущение, что наша тема – голоса – это всего лишь картонный макет или фасад здания на съемочной площадке, а реальный опыт людей, которые их слышат, находится где-то позади, в тени. Одно дело – слышать голос и представлять, как выглядит человек, которому он принадлежит, или прислушиваться в ожидании, что этот голос вот-вот заговорит. Однако голос, или, скорее, сущность, присутствие которой можно просто ощутить – не услышать, не вообразить, – кажется чем-то совершенно иным.
⁂Что имели в виду Алекс и Дэниел? С того дня в конференц-зале я продолжал задаваться этим вопросом. Я разговаривал со многими людьми, которые слышали голоса и чувствовали нечто подобное. Некоторые не были столь однозначны в своих рассказах: они могли слышать голос и описывать его как нечто реально присутствующее. Словно голос возвещал о чьем-то приходе, причем так, что его почти невозможно было игнорировать, – как если бы какой-то человек действительно пожаловал в вашу компанию. Один из участников исследования, охватившего свыше 150 людей, слышащих голоса, написал: «Я никогда не встречал кого-то, кто создавал бы столь мощное впечатление присутствия, как мои голоса. Они громкие и по ощущениям невероятно сильные… Когда я их слышу, их присутствие ощущается очень явно»[6]. По словам некоторых людей, голоса обладали телами или меняли ощущения в собственном теле человека: их присутствие было физическим – осязаемым отголоском того, что кто-то находится рядом.
Однако другие настаивали на том, что голоса могли присутствовать и без слов, как облако чистой индивидуальности, парящее и увеличивающееся, грозящее захлестнуть и обрушить дождь новых слов.
Я искал сравнимый опыт и читал все, что мог найти, пытаясь лучше разобраться в этой теме, но без особого успеха. Один из моих коллег как-то поинтересовался: «А есть ли такая штука в психологии? Ощущаемое присутствие – такое понятие вообще используется?» Я смущенно пожал плечами: ни о чем таком я не знал. Слышал о нескольких подобных вещах в самых разных контекстах – это были истории о выживании, о повреждении мозга и тому подобное. Но ничего похожего на ощущение присутствия. Это казалось слишком трудным для понимания, слишком завязанным на личный опыт. Вы можете попытаться описать ощущение подобного рода, но каким образом вы сможете его исследовать? Непонятно даже, как определить, что это такое. Все равно что пытаться сфотографировать привидение.
То, о чем рассказывал нам Дэниел, больше походило на бред, чем на галлюцинацию, – иными словами, это был вопрос убеждений и фактов, а не ощущений и восприятия. Галлюцинации и бред разделяют мир психоза на восприятие и убеждение. Галлюцинации опираются на сенсорные данные (сенсорное содержание); они по определению подразумевают восприятие чего-либо, что не имеет соответствующего стимула во внешнем мире (например, звука, прикосновения или запаха). Напротив, бред является порождением мышления. Он обычно направлен на что-то в окружающем мире (это свойство философы иногда называют интенциональностью), но никак не связан с ощущениями.
У Дэниела присутствие голоса не было связано с какими-либо ощущениями. По его словам, при этом не было звука, прикосновения или появления чего-либо в поле зрения. Сенсорные данные отсутствовали. Наоборот, он говорил, что «просто знал» о наличии голоса здесь, – это было что-то, что он осознавал, чего он ожидал, в чем он был убежден. Он был уверен, что этот голос, сущность или что бы это ни было действительно сопровождает его. С точки зрения психиатрии такое представление о присутствии было всего лишь бредом; он думал, а не ощущал, что кто-то здесь есть.
Через несколько месяцев после нашей встречи с Дэниелом к нам приезжает профессор психологии, который долгое время работал в этой области. День у него не задался: поезд опоздал, возникли проблемы с бронированием жилья – и он не знает, на какое время сможет остаться. Он должен представить свои новые работы, которые посвящены предрассудкам и убеждениям, касающимся голосов.
Затем несколько человек отправляются с гостем в паб. Мы пытаемся описать концепцию присутствия наряду с другими идеями, среди которых, например, ощущение голосов как литературных героев или воображаемых людей. Казалось, что из виду упускается вопрос: что можно ощутить, помимо непосредственных свойств голоса? Может быть, мы чего-то не замечаем?
«Видите ли, люди верят в кучу странных вещей, связанных с голосами, которые они слышат», – говорит профессор, пожимая плечами и допивая кружку пива.
Когда он встает, чтобы уйти, я задаюсь вопросом, не в этом ли все дело. Может быть, мы ищем то, чего здесь нет, – я имею в виду, в концептуальном смысле. Может быть, мы слишком многое домысливаем о находящемся на периферии того, что испытывают люди. Может быть, это просто потому, что мы ученые, которые всего лишь ищут что-то для оправдания своих размышлений.
Однако мне все же казалось, что это не так. Это было похоже на зуд любопытства, которое нужно было удовлетворить, на ощущение, что вопрос остается без ответа. Что еще было там, помимо голосов? Как будто сама эта идея довлела над нами, не желая оставлять нас в покое.
КИРА2018 год. Я завершаю очередное интервью, на этот раз с Кирой. Она рассказывает о «своих» голосах в поэтичной манере, но ей тоже приходится нелегко. Успешная беседа порождает массу новых идей и вопросов, но может также показаться назойливой и односторонней. Я хочу спросить об ощущении присутствия, но не могу – если описать такую вещь заранее, то может получиться, что вместо правдивых ответов люди будут давать ожидаемые. К счастью, после окончания интервью этот вопрос все же всплывает. Когда я собираю вещи, Кира уточняет, интересуют ли меня исключительно голоса. Я неуклюже пытаюсь описать ощущение присутствия. Она без колебаний отвечает: «Я точно знаю, что вы имеете в виду. Это как сгущение воздуха».
Мысленно я проклинаю себя за то, что уже выключил диктофон. Мне отчаянно хочется задавать вопросы дальше, спрашивать, что она могла видеть или чувствовать, но наше время истекло, и мы уже закончили разговор. Тем не менее я доволен тем, что она поняла мои слова. Это ощущение противоположно тому, которое осталось у меня после встречи с психологом. В этом определенно что-то есть – что-то, о чем не говорят.
Чуть больше года спустя мы заканчиваем кодирование бесед первого года исследований; свой опыт нам подробно описали 40 человек, слышащих голоса (все они обращались в службу EIP). Более половины из них сообщили об ощущении чьего-то присутствия[7].
МЫШИ НА СТЕНАХУпоминания о галлюцинациях и бреде можно найти в некоторых наиболее ранних клинических описаниях расстройства, которое сейчас называют шизофренией, хотя представления об их значимости (как клинически важных симптомов) за последнее столетие значительно изменились. Термин шизофрения ввел швейцарский психиатр Эйген Блейлер в 1908 г., однако обычно считается, что история этого понятия начинается с работ его современника Эмиля Крепелина, который впервые описал отдельный вид безумия, поражающего молодых людей, отличного от того, которое обычно наблюдается в пожилом возрасте. Крепелин назвал это расстройство dementia praecox (раннее слабоумие), что означает дегенеративное психическое заболевание, возникающее преждевременно, то есть еще в начале зрелого возраста. Согласно Крепелину, этот печальный прогноз и хроническая форма отличают такое расстройство от других видов безумия, например от маниакальной депрессии (сейчас называемой биполярным расстройством). Это было биологически обусловленное расстройство психики и мозга, однако галлюцинации или бред не относились к его главным признакам[8].
Более заметную и важную роль галлюцинациям (а также бреду) отводили в своих работах Карл Ясперс и Курт Шнайдер – два психиатра, которые в своем исследовании шизофрении опирались на идеи экзистенциальной философии. Одним из основных вкладов Ясперса в науку является утверждение, что форма психиатрических симптомов важнее их содержания, причем последнее часто бывает настолько причудливым, что становится «непонимаемым»[9]. Можно спорить, что это означает, но интерпретация, как правило, такова: те вещи, которые люди испытывают при психозе, настолько необычны, настолько далеки от логики повседневной жизни, что попытки понять их смысл представляются безнадежным делом. Усилия следует направлять не на попытки постичь содержание галлюцинаций и бреда, а на выявление того, какие галлюцинации и бред могут быть у пациента; это, в свою очередь, может помочь определить, какое лечение ему необходимо или какой конкретный диагноз следует поставить. Именно Шнайдер начал отводить галлюцинациям и бреду центральное место при диагностике шизофрении, утверждая, что их специфические формы составляют первостепенные симптомы этого расстройства[10].
Различие между галлюцинациями и бредом, а также их значимость при психозе сохраняются в клинической практике и исследованиях и по сей день. Все чаще разрабатываются различные методы лечения, направленные на соответствующие аспекты галлюцинаций и бреда, включая терапию, замедляющую умозаключения и мышление, чтобы избежать поспешных выводов, обусловленных параноидальным расстройством и мнительностью[11]. Однако на практике опыт – неуправляемый клиент. Это относится к жизненному опыту любого человека, независимо от того, находится ли он в состоянии стресса или страдает той или иной формой психоза. С момента появления понятий галлюцинации и бреда их оспаривают и ставят под сомнение. Можем ли мы реально разделить то, во что мы верим, и то, что мы воспринимаем?
Наши ожидания могут настолько сильно формировать вещи, которые мы видим или слышим, что бывает трудно определить, что мы испытали, а что просто вообразили и придумали. Если взять, например, случаи наблюдения НЛО, то желание человека верить в них определит то, как он интерпретирует увиденное в неоднозначных ситуациях, – возможно даже, это желание будет напрямую влиять на то, что наблюдатель видит. В то же время некоторые из наших самых сильных убеждений не так уж далеки от ощущений или чувств. Наши глубинные убеждения не похожи на рациональные суждения, воспринимаемые нами как абстрактные темы для обсуждения, которые можно выбирать или отбрасывать по своему усмотрению. Они ощущаются на подсознательном уровне, часто до такой степени, что мы просто уверены, что иначе и быть не может. Политические взгляды, моральные убеждения, табу – всё это идеи, но при этом мы можем ощущать их на физическом уровне, всем своим существом. Когда кто-то говорит, что он «просто знает» что-то, хотя не может привести никаких доказательств, различие между знанием и ощущением почти невозможно провести. А в категориальные трещины и разломы между этими понятиями может упасть и затеряться весьма многое – особенно те переживания, которые труднее всего выразить словами.
Несмотря на это, ощущение присутствия отмечается уже в некоторых наиболее ранних описаниях психоза, но его бывает трудно отделить от других необычных феноменов. Блейлер, например, также описал такие странные явления, как «беззвучные» голоса: люди убеждены, что с ними разговаривают или они получают какие-то сообщения, но при этом отрицают наличие звука. Один из пациентов Блейлера объяснял: «Я не слышу ушами. Это ощущение в груди. Но все же кажется, будто я слышу звук». По словам другого пациента, «можно быть совершенно глухим, но все равно слышать голоса»[12]. Как отмечают философ Сэм Уилкинсон и психолог Воган Белл, случаи, когда люди сообщают о беззвучных голосах, заставляют нас задуматься о том, какая фигура может скрываться за голосом, который обычно слышен[13].
Нечто более близкое к ощущаемому присутствию упоминается в работах Карла Ясперса. Ясперс писал о leibhaftige Bewusstheit (физическом осознании)[14], которое он описывал как «определенное ощущение (в ментальном смысле) или осознание того, что кто-то находится рядом, позади или выше; кто-то, кого человек никак не может воспринимать внешними органами чувств, но чье фактическое/конкретное присутствие непосредственно/явно переживается»[15].
Ясперс также описал ряд примеров ощущения присутствия у людей с диагнозом dementia praecox[16]. Один пациент сообщал: «…ощущение, что кто-то был внутри меня, а затем вышел, возможно, сбоку или каким-то другим образом… я чувствовал, словно кто-то постоянно ходит рядом со мной». Иными словами, это было ощущение, что нечто постоянно следовало за ним, каким-то образом к нему привязанное. Другой пациент ощущал, «как будто его отец находится в комнате позади него»; это указывает на то, что отдельная личность может восприниматься как часть этого опыта, – так же как Алекс знал, где какие голоса находятся. Некоторые участники опроса описывали более сложные ощущения: чувство, что их гонит вперед кто-то другой (опять же находящийся сзади) или что их перемещения согласованы, когда они двигаются в пространстве. Последний случай сводится к архетипическому leibhaftige Bewusstheit: присутствие «постоянно ощущалось, как будто имелся кто-то, наблюдавший за человеком, но кого тот не мог видеть».
Аналогичная идея прослеживается в опыте, описанном Блейлером как экстракампинные галлюцинации, то есть галлюцинации, возникающие вне определенного (сенсорного) поля[17]. В 1904 г. Конолли Норман опубликовал в журнале The Journal of Mental Science анализ работы Блейлера[18], где привел следующие примеры экстракампинных галлюцинаций:
(1) пациент видит что-то за окном, хотя находится к нему спиной;
(2) пациент в состоянии белой горячки (delirium tremens) жалуется, что струи воды падают ему на тыльную сторону руки из определенного угла потолка; он не видит их, но ощущает кожей на тыльной стороне руки, что они исходят именно из этого места…
(3) пациентка ощущает, как по стенам бегают мыши; она их не видит, но чувствует их движение кожей[19].
Ощущение присутствия чем-то похоже на приведенные случаи, а чем-то отличается. Когда мы чувствуем, что нечто присутствует рядом, но при этом не используем обычных органов чувств, мы ощущаем нечто невозможное – выходим за пределы обычного сенсорного поля. Но в то же время описанный опыт, по всей видимости, не совсем соответствует тому ощущению присутствия, с которым мы уже сталкивались. Он выходит за рамки того, что человек мог бы гипотетически испытывать, но в нем нет социального аспекта – ощущения кого-то рядом. Такой экстракампинный опыт также включает сенсорное содержание даже при перемещении этих сущностей на невероятные расстояния – человек все равно ощущает их прикосновение или видит невозможными способами. Напротив, в ситуации с ощущением присутствия смущает отсутствие каких-либо четких данных. Как Дэниел или Алекс узнают, что голоса находятся в данном месте? Люди ощущают их присутствие, но не в том смысле, что касаются или видят их. Они просто находятся рядом.
В связи с этим возникло мнение, что, когда речь идет о феномене присутствия, использование термина экстракампинный ведет нас по неверному пути[20]. Вероятно, это заставляет нас предположить, что сенсорное содержание играет здесь слишком значительную роль, но при этом мы упускаем сложный вопрос: что на самом деле происходит, когда практически нет никаких ощущений? При этом появилось множество других терминов: ложное осознание близости, четкое физическое осознание, выраженное осознание, идея присутствия, ложное телесное осознание и немецкое Anwesenheit (просто «присутствие»)[21]. Чтобы понять это явление, нам, возможно, понадобятся разные аспекты всех этих гипотез: близость, реалистичность, телесность, материальность вещей по сравнению с абстрактным миром идей. С помощью этих различных названий чувство присутствия можно определить – но только длинным и извилистым путем.
Таким образом, тема присутствий не является чем-то новым. Ощущаемые присутствия были всегда, люди пытались описать их, но не могли зафиксировать, понять, почему они приходят, почему они здесь. То, о чем рассказывали Алекс или Дэниел, не было неизведанной территорией; эти феномены наблюдали и документировали со времен зарождения психиатрии.