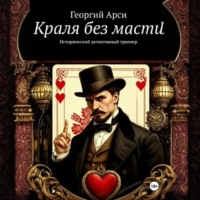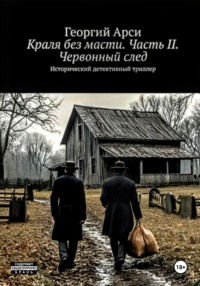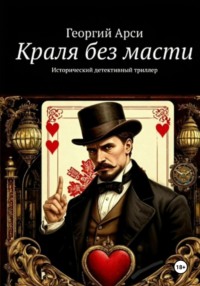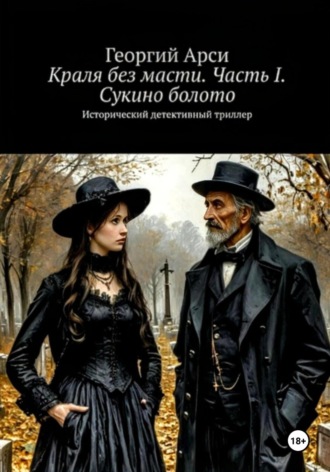
Полная версия
Краля без масти. Часть I. Сукино болото

Георгий Арси
Краля без масти. Часть I. Сукино болото
Грех – не что иное, как удовлетворение желаний запрещёнными способами. Страсть – устойчивый навык к совершению греха. Порок – неизлечимая любовь к греху. В этом есть суть сюжета романа.
От автора
Петру и Надежде Красовских посвящается
В романе идёт речь о кровавой истории, случившейся в Москве в конце девятнадцатого века. Имена большинства героев реальны, некоторые изменены, а отдельные персонажи вымышлены автором в целях раскрытия сюжета. Для передачи атмосферы прошлого использованы тексты из старинных документов.
Роман состоит из двух частей: «Краля без масти. Часть I. Сукино болото» и «Краля без масти. Часть II. Червонный след».
Книга продолжает серию детективов: «Дело о секте скопцов», «Клад Белёвского Худеяра», «Проклятие старого помещика» и «Китовая пристань. Наследие атамана Пугачёва».
Текст печатается в авторской редакции и пунктуации. Автор романа не поддерживает и не пропагандирует речи и деяния героев книги и совсем не разделяет мировоззрение отдельных из них. Все события, имеющие связь с запрещёнными веществами и антиобщественными поступками, описаны исключительно в интересах сюжета романа.
Автор благодарен русским писателям и журналистам девятнадцатого века: Александре Ивановне Соколовой, Сергею Николаевичу Шубинскому, Владимиру Алексеевичу Гиляровскому, Андрею Михайловичу Дмитриеву. Труды этих замечательных людей помогли изучить нравы и события тех далёких времён и воссоздать прошлое.
Автор признателен Олегу Васильевичу Чернышу за специальные консультации по российскому уголовному праву девятнадцатого века.
Книга создана под эгидой и при меценатской поддержке АО «Перспектива» г. Тулы и лично генерального директора Александра Васильевича Лежебокова.
Глава 1 Похищение. Год 1885. Москва
Изъ «Инструкцiи городовымъ Московской полицiи. Обязанности городовыхъ по охранѣнію обществѣннаго порядка, спокойствія и благочинія». Изданiя 1885 годъ.
«…Питыя въ душѣ своей нѣпоколѣбимую прѣданность ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, исполняя службу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по совѣсти, заботясь постоянно о томъ, чтобъ находиться прi дѣлѣ не для виду только, а для дѣйствитѣльной пользъ, городовой обязанъ съ публикою обращаться вѣжливо.
Исполнѣніе закона или полицѣйскаго распоряжѣнія слѣдуетъ трѣбовать съ достоинствомъ и настойчиво, но отнюдь не грубымъ или обиднымъ образомъ. Если городовой самъ подвѣргся оскорблѣнію, то, не дозволяя сѣбѣ ни словомъ, ни дѣломъ нiкакой личной расправъ, должѣнъ прiгласить, а въ случаѣ упорства прѣдставить это лицо къ своему Начальству. Городовой не имѣетъ права ни подъ какимъ видомъ оканчивать такое дѣло прiмирѣніемъ. Городовой обязанъ прѣкращать всякій шумный разгулъ, шумъ, крiкъ, брань, ссоръ и драки на улицахъ, площадяхъ и въ публичныхъ мѣстахъ. Не дозволять нiкому ходить обнявшись, пѣть пѣснi, свистать, играть на инструмѣнтахъ. Воспрѣщать произносить на улицахъ ругатѣльства и нѣпрiличныя шутки. Пьяныхъ, которые идутъ, шатыясь и падыя, но не потѣряли еще совѣршенно сознанія, отправлять на квартиръ, если таковыя извѣстнъ и находятся нѣподалѣку; прi чемъ, если онi произвѣли шумъ, пѣли пѣснi или отправляли естѣствѣнную надобность или какое-либо другое бѣзчинство въ виду публики, то, прiгласивъ стороннiхъ лицъ быть свидѣтѣлями произвѣдѣннаго бѣспорядка, записать званія и фамиліи, какъ виновныхъ, такъ и свидѣтѣлѣй и по смѣнѣ съ дѣжурства доложить о происшествіи своему Начальнiку. Въ болѣе важныхъ случыяхъ и тогда, когда званія и фамиліи виновныхъ не могутъ быть городовымъ обнаружѣнъ, отправлятъ ихъ въ участокъ. Если квартиръ пьяныхъ нѣизвѣстнъ или слишкомъ отдалѣнъ и вообще, если пьяные находятся въ бѣсчувствѣнномъ состояніи, слѣдуетъ отправлять ихъ въ полицѣйскій домъ…»
Некий господин лежал на боку на прошлогодней гнилой соломе у стены сарая. Под головой нелепо торчало старое седло, кем-то заботливо положенное для создания удобства. Судя по поношенной, но всё ещё приличной городской одежде, человек принадлежал к дворянскому сословию. На голову страдальца был надет грязный и пыльный мешок, стянутый у кадыкастого горла коротким шнурком. Руки и ноги, связанные пеньковой верёвкой, не позволяли подняться или поменять позу. Сквозь небольшую дырочку в мешковине пленник одним глазом внимательно разглядывал окружающий скудный мирок. В толстых нитях паутин переливались яркими цветами лучи летнего солнца, пробивающегося внутрь халупы сквозь щели в крыше. В углу стоял ландолет цвета «жжёного хлеба» с лежащими на земле оглоблями. Рядом домовито и по-хозяйски ходили три курицы и толстый петух с красными перьями. Не обращая внимания на пленника, птицы, занятые поиском пищи, без устали раскидывали земляной пол и трухлявую солому, искали червей и тут же испражнялись дурно пахнущим помётом. Недалеко виднелась кособокая лестница из жердей, ведущая на сеновал. В одном из углов сарая кричали о хозяйской лени грязные от навоза вилы, лопаты и кирки с остатками земли. Всюду летали жирные мухи, назойливо тыкаясь в доски сарая, противно жужжа и тем докучая связанному человеку.
Рядом с незнакомцем валялся потрёпанный кожаный портфель для бумаг, уже слегка обгаженный домашними птицами. За пределами сарая кричала кукушка, навевая грустные мысли о жизни и смерти. Пленником, насильно помещённым в столь неприятные условия, являлся бывший московский дворянин и коллежский секретарь1 Винагорский Иван Христианович.
Иван Христианович страдал. У него невыносимо болела голова, ломало тело, а горло мучила жгучая жажда. А самое главное – хотелось узнать, где он и как оказался в таком унизительном и даже рабском положении. Винагорский прекрасно помнил, что сегодня десятое июня. Уже больше недели прошло после великого православного праздника – дня Святой Троицы – и вовсю исполнялся Петров пост. Хотя Иван Христианович не являлся глубоко верующим человеком, однако по сугубо личным причинам помнил об этой дате.
Во-первых, в эти дни, хоть слезами умойся, никто взаймы не давал.
Во-вторых, по окончании поста многие играли свадьбы. А такие праздники он уважал по причине возможности получения обильной дармовой еды и бесплатного пития. Для осуществления таких замыслов нужно было явиться в самый разгар праздника чисто одетым, трезвым и подарить букет цветов невесте на глазах у многочисленной публики.
Конечно, близкие молодожёнов понимали, что новый гость – обычный проходимец. Однако скандалить и выгонять такого наглого хитреца, желающего дармового угощения, никто не решался по причине широкой русской души. Дебош, драка и прочие бесчинства на свадьбе являлись плохой приметой.
Пленник лежал и мучительно думал. Ивану Христиановичу с трудом, но вспомнилось, что вчера уже после восьми часов вечера познакомился он с двумя приличными господами. По виду обедневшими дворянами, на худой конец, московскими городскими мещанами. Винагорский сословные статусы у них не уточнял: времени, желания и настроения для этого не имелось. Кажется, обоим было лет под сорок, а может, чуть больше. Вечер прошёл замечательно, в разгуле, душевном празднике и веселье. Пьяный угар, одним словом, возобладал. Обычное дело для уважающего себя ухаря и московского кабацкого гуляки. Трактиры аж несколько раз меняли, как дворцовые дамы – перчатки на долгом балу. Эх! Залихватский русский кураж! Знатным купцам ни в чём не уступили. Таких господ, что он вчера внезапно нашёл в друзья, в кабаках и питейных лавках называли ещё «потёртыми», или «бывшими». Шло подобное от того, что в своё время занимали они должности и чины соответствующие, да утратили всё вконец. Каждый по разным причинам. Кто за кумовство, взятки или воровство, а кто просто из-за пьянства. Со временем приличная одежонка у таких господ становилась заношенной, штопаной и свидетельствовала о потерянной жизни. О прежнем достоинстве говорили только благородные манеры да никому не нужный гонорок. За который бывали они хорошо и до крови биты обычными московскими мужиками: ремесленниками, кучерами, золотарями, рабочими мануфактур, в подпитии и сословном кураже.
Таким неудачникам каждый пьяный московский работяга норовил по случаю заехать в морду, прямо между глаз, а лучше кровавую юшку пустить из благородного носа. Потому как утратили бывшие благородные господа своё общественное значение и считались бульварным народцем, одним словом – городской голытьбой. Падшие в сословном уровне людишки защиту имели только сами в себе, полиция за подобных обитателей Москвы грудью не стояла.
Помнил Иван Христианович, что знакомство состоялось в одном из приличных кабаков на Третьей Рогожской улице, что располагалась недалеко от Андроникова монастыря. Слово за слово, и вот уже стали они истинными товарищами на веки вечные. Тут же началось дружеское застолье с самогоном, настоянным на травах, расположившись стоя за высоким круглым столом. В заведении и закусь хорошая имелась. Даже сало, печёную куру да кулебяки с рыбой и мясом подавали. Гулящие девки меж столов ходили, упругими задницами вертели. Одну из них, по бесшабашной пьяни, Иван Христианович раз пять ущипнул.
О том, что вчерашний день начинался в доброй памяти, свидетельствовал портфель для бумаг, лежащий рядом. Винагорский его брал, чтобы дополнить композицию занятого и дельного человека. Хотя уже более трёх лет Иван Христианович не имел чиновничьего присутствия. Он был давно исключён из всех приличных обществ. Этим портфелем и важным видом да светским разговором ему удавалось вводить окружающих в заблуждение. Благодаря, на первый взгляд, никчёмной вещице принимали его за действующего чиновника, угощали, наливали в надежде на полезность знакомства. Таков русский человек, он завсегда чиновника впрок готов напоить, авось пригодится в будущей жизни.
С Третьей Рогожской улицы переехали в другой кабак, там тоже неплохо гуляли. Потом направились к Рогожской заставе, в придорожную пивную лавку под названием «ДОБРЫЙ ХРЯКЪ». Однако в ней уже такой культуры не было. Просто много пили и вели мудрёные разговоры. Обсуждали непомерный рост цен на услуги в московских борделях и никчёмность стремления современных мещанских девиц к образованию. Сетовали на ненужность каторг как мест угробления живой мысли и души образованного человека. Критиковали излишне активное строительство доходных домов. Рассуждали о тяжком положении славянских народов на Балканах и роли России в Афганистане. Всё было как всегда у русского дворянства. Начинали с обсуждения женщин, потом перешли к благородному и задушевному, а закончили имперской политикой.
В лавке, по пьяному делу, нашла на него невыносимая внутренняя мысленная горечь. Вначале Иван Христианович долго признавался новым друзьям в своём душевном плачевном состоянии. Много разговоров вёл о тех счастливых временах, когда ещё не был в таком нравственном падении и сословном разложении. Затем, вопреки нормам поведения в общественном месте, пел босяцкие скабрёзные песни. Сорвав голос от очумелого крика, безрассудно высказывал оскорбления в адрес директора Московского публичного и Румянцевского музея, действительного тайного советника Василия Андреевича Дашкова, чем вызвал крайний испуг гостей и хозяев заведения. Ибо статус этого господина соответствовал генералу рода войск или адмиралу и высшим придворным чинам. За подобные разговоры заведение могли закрыть с наложением крупного штрафа, а всех присутствующих взять на карандаш в полицейском участке.
Новых приятелей, пытающихся урезонить, Винагорский, возбуждённый алкоголем и разговорами о политике, слушать не стал. Полового оттаскал за вихры и пытался при этом расцарапать лицо. Самым ужасным оказалось последнее: не имея совести по пьяному делу, пытался справить естественную надобность прямо у крыльца придорожной пивнухи. Всё бы ничего, но именно в этот момент появился городовой. Может, кто вызвал, или по чистой случайности. Видя свою неминуемую беду и ужаснувшись от предстоящего штрафа, бросился Иван Христианович бежать. Да не сразу, а вначале плевался в направлении блюстителя порядка, угрожал ему кулаком и обещал навертеть на неприличную часть своего тела.
Уж далее он полностью не помнил. Кажется, подхватили его новые товарищи и умчали на ландолете цвета «жжённого хлеба» подальше от места позора. Несмотря на провалы в памяти, Винагорский был уверен, что употреблял он за счёт новых друзей и вечерний праздник не стоил ему ни копейки. Иначе никак!
Иван Христианович всегда за чужой счёт пил впрок, до «белых чертей и зелёных белок». Да и денег в тот день совсем не имел. А в долг ему уже давно никто не ссуживал, в том числе и в кабаках. Из ценного у него с собой имелись батюшкина серебряная медаль и старый просроченный пропуск в Московский публичный и Румянцевский музей.
Потёртую, поцарапанную медальку он носил с собой постоянно, в специальном потайном кармане брюк, как некий волшебный талисман. Эту награду покойный батюшка получил во время войны с французским императором Наполеоном, сохранив от неприятеля какую-то важную государственную военно-полевую денежную почту. В отличие от Ивана Христиановича, его предок был человеком уважаемым. Достойно отслужил при Почтовом департаменте, что в те года относился к Министерству внутренних дел империи. Конечно, по мнению Ивана Христиановича, лучше бы он в те далёкие времена припрятал эти деньги, а после передал клад по наследству сыну. То есть ему, Ивану Христиановичу. Война, как известно, дело смутное, всё бы списала. Что касаемо старого пропуска, то Винагорский носил его по своему обыкновению в портфеле для убеждения собутыльников в своей важности и высоком положении в обществе. Дата там была специально затёрта и при обычном знакомстве с этим документом совсем не видна.
Внутренние рассуждения прервались. Внезапно дверь сарая скрипуче отворилась. Хотя обзор из отверстия мешка был плохим, Винагорский понял, что пожаловали вчерашние приятели.
Ивану Христиановичу ранее казалось, что новых друзей он особо не запомнил, оказалось, думал ошибочно. Имена вдруг сразу пришли на память. Уж больно особыми они были. Да и манеры между этими господами поражали своеобразностью. Одного, что был за старшего, звали Витольд Людвигович, а второго – Александр Вениаминович.
– Как себя чувствуете, Иван Христианович? Головка-то побаливает? Да, удивили вы, милейший. Половину одного «гуся» уговорили. Ох и молодцом! – заявил Витольд Людвигович хриплым голосом, горестно переведя дыхание, как бы от сильной усталости.
Винагорский припомнил, что этот господин вчера постоянно вздыхал. Скорее всего, не от сочувствия чужому горю или восхищения каким-либо деянием, а по давней привычке от душевной или умственной болезни нервами.
«Ах, половину „гуся“ уговорил, вот пёсья натура! Мог, конечно, выпить, особо под хорошую закусь или для похвальбы. Теперича голова дня три не пройдёт, а то и все четыре. Мешать будет жить по-человечески. Да и вообще, зачем я с ними поехал? Эх, надо было просто сбежать от городового, затерявшись в подворотнях. Хотя нет! Поймали бы и в тюрьму на месяц, на исправительные работы отправили. Общественные клозеты чистить или в богадельнях убираться», – уныло думал Иван Христианович.
Особая бутыль, вмещавшая в себя три с половиной литра самогона, называлась словом «гусь». Такого количества домашней водки было даже ему, известному в своём мире пропойце, многовато. Хотя последние три года пил он ежедневно, самозабвенно, с удовольствием и хорошим настроением.
Отвечать случайному вчерашнему собутыльнику бывший коллежский секретарь не стал, но не из-за гордости или презрения. Просто в последнее время жизнь его научила больше слушать, чем говорить. Паузу сделать бывало просто необходимо, чтобы понять, чего хочет собеседник. Однако это правило работало не всегда, а только когда он был трезвым или в похмельном состоянии. Пьяным же молол всякую бесконечную чепуху, за что бывал неоднократно бит по морде. Много чего плохого в его жизни случилось из-за водки. Вначале Иван Христианович пропил домик на окраине Москвы, что родители оставили непутёвому единственному сыночку. Потом остатки землицы в Орловской губернии и небольшие сбережения. Закончив с большим, взялся за малое, превратив в стакан с водкой личные вещи и скудные награды отца. Прогуляв последнюю память, начал пить на доверии, занимать у всех, кто мог дать. Брал в долг у родственников, затем у товарищей по гражданской службе, следом и у малознакомых людей. Год назад и эта «лавка» затворилась. Перестали ему ссужать деньги, даже кормить бесплатно перестали. Посему в последнее время Винагорский наслаждался жизнью за счёт похорон, свадеб, пьяных компаний в дешёвых трактирах. Особо любил праздничные дни, установленные в честь именин членов императорской семьи, называемые царскими, церковные, государственные праздники и всяческие даты военных побед. На них да на общественных гуляниях всегда можно было наесться даром и самозабвенно напиться впрок. Ему иногда казалось, что желудок считает самогон чем-то родным и нужным для функционирования внутренних состояний организма бывшего коллежского секретаря.
Сейчас Иван Христианович лежал и раздумывал о цели сего пленения. Всерьёз, как угрозу для своей шалопутной жизни, подобное положение он не рассматривал. Кому нужен обедневший и спившийся человек, бывший дворянин и чиновник? В таком унизительном состоянии его могли держать в трёх случаях: пытаясь вернуть пропитые вчера деньги, шутки ради, также из-за обиженных чувств. Денег у него не было и быть не могло. Он надеялся, что новые товарищи это прекрасно понимали, когда поили даром. Оскорбление людей не соответствовало его правилам поведения, значит, оставался розыгрыш. Хотя всякое могло случиться от такого количества выпитого самогона, вот вчера же пытался избить полового и плевался в представителя власти. Однако не всё казалось таким простым. Кое-что изменилось после вчерашнего случайного общения. Теперь Винагорскому в относительно трезвом состоянии очень не понравился говор Витольда Людвиговича. Тот почему-то начал произносить слова по-особому, с некоторым придыханием, удлинением, нажимом и каким-то опасным человеческим хрипением. Горестные вздохи, как показалось Ивану Христиановичу, происходили явно от нервного, болезненного состояния души, а может, от расстройств головы. Особо важным это, конечно, не являлось. Например, у него самого имелась привычка в сильном переживании дёргать левой скулой. Плохим было другое.
Подобные манеры произнесения речей он слышал ранее в некоторых пивных лавках низкого пошиба. Так обычно говорили бывалые завсегдатаи тюремных замков или отбывшие сроки на каторгах. Исключительно свирепые люди, неисправимые грабители и бессовестные воры. Эти сидельцы отличались от сосланных навечно каторжан тем, что могли отбыть наказание за свои прегрешения и вернуться туда, где раньше жили. В родные дома, поселения или города, чтобы вновь воровать и пугать обывателей.
Как правило, такие людишки после первого срока каторги или тюрьмы опять брались за воровское ремесло и в очередной раз оказывались в отдалённых местах, становясь рецидивистами. Правил человеческого общежития они не соблюдали, а государство презирали. Что касаемо обычного человека, так они его своей добычей считали, в пример охотникам.
– Чего помалкиваете? А, Иван Христианович? Какие же способы позволите применить, чтобы услышать ваше благородное слово? Вчерась весьма разговорчивы были! Действительного тайного советника при большой публике проклинали. Афганистаном интересовались. Распутных девок критиковали. Может, жалеете, что с нами поехали по доброй воле? Раскрою секрет: по-хорошему или силой, всё равно оказались бы в этом сарае. Такова ваша планида, то есть судьба-злодейка, – произнёс хрипловатым голосом Витольд Людвигович.
«Ой! Неужто с урками каторжными вчера погулял? А может, и наговорил чего-то не того, по глухой пьяни. Вот дурак, эх, конь облезлый. Но почему всё одно бы оказался в сарае? Зачем они охотятся за мной?» – с некой озабоченностью подумал Винагорский.
Однако ни одного слова не сказал. Вновь решил промолчать. На его в прошлом породистом лице интеллигента, а ныне физиономии московского хронического пьяницы отобразилась жестокая мука раздумий.
– Или пропитой мозгой шевелит, или притворяется умершим. Может, он уже и вправду издох, а дышит просто по привычке. А, Витольд Людвигович? Вы как на это смотрите? Не надо было вчера его так поить, говорил я вам. Теперь чего с ним делать? В печь? В болото? Или в землицу закопаем? – весело заявил Александр Вениаминович, растягивая слова на манер каторжного сидельца.
Винагорский похолодел. Он сразу и не понял, шуточное это предложение или реальное. Голова загудела, как колокол. Стала ещё тяжелее, чем накануне разговора, в момент мучений от невыносимого похмелья.
Глава 2 Иркутские каторжники
Из «Сборнiка узаконѣній для руководства чиновъ полиціи и корпуса жандармовъ прi расслѣдованіи прѣступлѣній. О значеніи сыскной дѣятѣльности». Изданiя 1880 годъ.
«…Если на мѣстѣ прѣступлѣнія, внѣ обитаемаго жѣлища, найдѣнъ были обрывки пѣчатной или писаной бумаги, клочки одѣждъ и тому подобное, то всѣ это нѣобходимо взять, потому что въ дальнѣйшемъ ходѣ дѣла онi могутъ оказать услугу въ такомъ случаѣ, если бы цѣлое, отъ котораго онi оторванъ, оказалось въ жилищѣ прѣступнiка.
Подобно этому, могутъ дать нѣкоторую улику окурки папиросъ или сигаръ, брошенныѣ на мѣстѣ прѣступлѣнія, и этими остатками прѣнѣбрѣгать нѣ слѣдуетъ. Въ практикѣ были такіе случаи, что найдѣнныя около убитаго мѣдныя пуговица прiвѣла къ обнаружѣнію прѣступнiка, а оказавшійся на шеѣ убитаго обрывокъ пояснаго рѣмня указалъ на убійцу…»
Витольд Людвигович на вопрос своего спутника не ответил. Он стоял и наблюдал. Бесстрастное лицо не выражало ни чувств, ни эмоций. Александр Вениаминович подошёл к портфелю, лежащему на земле. Нагнулся, поднял, повертел в руках, внимательно осмотрел вензеля Московского публичного и Румянцевского музея. После чего взял с земли пучок соломы и вытер им кожаную поверхность от навоза, прилепившегося по углам. Затем раскрыл, заглянул внутрь, ничего там не увидев, засунул руку, прошёлся по карманам. Обнаружив кусочек картона, поднёс к глазам. Это оказался выцветший лист пропуска в музей. Александр Вениаминович внимательно прочёл все надписи, а после бросил клочок плотной бумаги на пол сарая и усердно втоптал каблуком сапога в мягкую землю.
– Баерует он, Александр Вениаминович, баерует и серого беса давит. Освободи ему головёнку и верхние ветки. Он и вчера был как «бык в загоне», тоже беса давил. Клянусь иркутской каторгой, – хриплым басом ответил Витольд Людвигович после длительной паузы, опять горестно вздыхая.
– Может, и баерует, но от того нам не легче. Давайте я ему по сопливым мордасам и висячим щекам с бакенбардами лягну сапогом или на ухо каблуком наступлю. Всё утрясётся враз и встанет на свои места. Сейчас же завоет, запищит и признается в уважении к нашим персонам, – заявил Александр Вениаминович, почёсывая затылок, громко и лающе рассмеявшись.
«Что за дела? Обращаются друг к другу на вы, по-господски, но жаргонят, как тюремные. Может, всё-таки не уголовные урки, а кто-то из давних приятелей разыгрывает?» – испуганно подумал Винагорский, дёрнув от расстройства левой скулой.
Он начал судорожно копаться в памяти, пытаясь прикинуть возможных участников этой неприятной затеи. Однако на ум никто не приходил. Уже с год как товарищей и приятелей совсем не осталось. Одни разовые собутыльники в прокуренных и пропитых кабаках да соседи по нарам в дешёвых ночлежках. Они не могли это сделать. Ума у этой швали подзаборной для такого розыгрыша не доставало. Да и для чего?
Иван Христианович прекрасно понимал, что он присутствует где-то на окраине Москвы. Если вчера они гуляли около въездной заставы в город, то сейчас он мог находиться и в деревеньке. Отсюда и куры, запоганившие весь пол в сарае.
Слова, сказанные бывшими собутыльниками, Иван Христианович, конечно, понял. В дешёвых трактирах и не такого можно наслушаться.
Баеровать и беса давить – примерно было одним и тем же. Подобное выражение означало обманывать или хитрить. «Ветками» считались руки и ноги. А вот выражение «бык в загоне и серый бес» выражало мнение о нём как о человеке немного придурковатом в поведении.
– Ничего в портфеле путного нет, лишь старый пропуск валялся. Эту бумажонку он для пущей важности с собой носил. Чтобы, значит, его за действующего чиновника считали. Выбросить эту портфелюгу надо, – заявил Александр Вениаминович, сплюнув на проходящую курицу.
– Стойте, стойте. Выкидывать в корне неверно. Личность господина Винагорского сама по себе, а портфель сам по себе. Может, сей предмет должностного положения поумнее будет, чем наш дружок Иван Христианович. Вон какой потёртый, много чиновничьих рук повидал. Немерено горюшка людского в себе перенёс. Пригодится, я вас уверяю. Каторгой клянусь, век счастья не видать, – заявил Витольд Людвигович и протянул руку за потёртым портфелем.