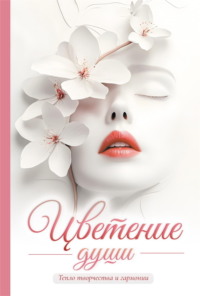Полная версия
Выбор редактора
Такие сцены их совокуплений не могли пройти даром. Они сводили обоих с ума, наполняя жизнь огромным смыслом, постичь который до конца не удавалось, в чём была заключена некая тайна. Была заключена прелесть, которую они ждали от встреч, заранее на них настраиваясь. Он уже возбуждался, сидя на её репетициях, где всякие герои обходились с ней мягко-словесно, а ему мнилось в тот момент, как он сам бы сыграл роль невзначай задиристо и смотрелся бы при этом ничуть не хуже всяких вывернутых паяцев. Он запоминал реплики и вставлял их потом при случае, когда они были наедине. Она смеялась, он её забавлял. Но на самом деле он просто нащупывал пути к той фазе лирической вседозволенности, которая открыла бы перед ним любые формы покорения её сердца, а ей бы вменила в обязанность его боготворить.
Милые стихи, которые они допускали поначалу в качестве небольшой прелюдии перед оргией, ему стали как-то неинтересны. Пресноватый язык поэзии, предполагающий чувствование через мысль, выглядел сухим и нудным. Она стараясь декламировала, а он совал ей палец в рот. Она не сопротивлялась, она сама его сделала таким. И он читал ей следующие строфы, на которых её прервал, когда ей уже было не до них. Всякие слова он обогатил реальным смыслом неимоверно. Поэзия воплощалась в физическое истребление скуки, и она просто счастлива была превратиться из актрисы в ученицу, из баловницы сцены в сугубо достойную женщину мира, нашедшую своего бога, конкретного любовника с богатым воображением, а не просто мужика, никак не соблюдающего правила хорошего тона.
Но вот Пигмалион выпустил на волю своё милое творение. Рано или поздно это должно было случиться, не век же ему держать свою возлюбленную под контролем. Они стали видеться реже, потому что он чувствовал, что привязал её к себе достаточно крепко. Однако он ошибался. То, что, как он думал раньше, предназначалось ему, на самом деле являлось свойством её натуры. Она без проблем, не высказывая ему никаких претензий, заполняла свободные от него часы иными занятиями, иными своими друзьями и, в общем-то, смогла бы, наверное, при необходимости быстро его забыть. Ей было просто весело, она всё время наслаждалась, а кто её любит или не любит, эту ветреную особу трогало, скорее всего, в последнюю очередь. Серафим это понял слишком поздно.
Появился новый обожатель. Они пересекались с ним несколько раз, но Серафим, видя его рядом с ней, не придавал сему факту большого значения. Тем более что тот являлся артистом, состоявшим в их труппе, и они как-то репетировали вместе с Эльвирой одну сцену из постановки.
Сбило его с толку и то обстоятельство, что коллега по цеху вёл себя в её присутствии как-то двусмысленно, вообще неопределённо, не то играя роль, не то скрывая флирт за выдуманным образом. На конкретные вопросы тот не отвечал: приводил цитаты классиков или отшучивался, как скользкий тип, и Серафиму временами стало казаться, что он среди них лишний. Но он ещё не мог признать, что есть соперник. Он не видел в этом типе своего соперника, как бы тот ни изгалялся в знании литературы и искусств и умении представить себя этаким Фавном. Пока у него не было подозрений, что она втайне от него встречается и со своим коллегой тоже. И что ей с артистом намного комфортнее.
– Как тебе наша история? – спросил его однажды этот тип.
– Какая? – не понял он.
– Нута, которую мы вчера перед тобой разыгрывали.
Её приятель говорил о репетиции, которую пришлось посмотреть вопреки желанию, поскольку Серафим надеялся, что она в тот день быстро освободится.
– По-моему, много сумбура. Всё должно быть конкретнее, – не стал он заискивать перед их талантами. – Впрочем, может быть, я что-то не понял.
Приятель засмеялся и фамильярно похлопал его по плечу:
– Всё правильно. Ты должен увидеть спектакль целиком. Его главный смысл – оставить послевкусие, как от хорошего вина. Понимание придёт позже.
Вообще, тот ни с кем не церемонился, даже со своими коллегами по сцене. А Эльвиру он иногда погонял в хвост и в гриву, словно заправский режиссёр, хотя таковым вроде бы не являлся, отчего Серафиму было неловко как свидетелю их творческих разборок. Но, может, её такое положение вещей устраивало? А может, они просто над ним издевались? Он позже только сообразил, что попал всё-таки на актёрскую импровизацию, когда в пьесе не прописаны даже диалоги, а вся постановка есть некий сгусток материи, которую артисты жуют два часа и никак не могут проглотить. О бедных зрителях никто при этом не думает: они должны проникнуться чувством новизны заранее, при виде только одного бревна или цепей на сцене. Причём всё это может спокойно называться «Евгений Онегин». И изображать можно что угодно – понимай это как хочешь. На то зритель и пришёл в театр, чтобы распознавать. Не наслаждаться – а распознавать в увиденном художественные образы.
Короче, её друг начал ему надоедать. Она этого не замечала, и поэтому в его любовь впервые заглянуло раздражение. Всю её прелесть, нежность и отзывчивость он стал делить с её другом на двоих. А через несколько дней подумал, что тот вообще загребает большую часть предназначенной им игривости, чудесной открытости сердца и прочих прелестей её натуры. Тот ни на что вроде бы не претендовал, во всяком случае видимо, но к его груди она припадала плотнее. Тот не мнил себя героем-любовником, но у него получалось это естественным образом. Она любезничала с актёром по жизни и благоволила тому по сценарию, была кроткой и забавной во время и вне репетиций, носилась с чужими идеями как курица с яйцом – в общем, изводила Серафима своим поведением, и ему никак не удавалось отделить её настоящую от выдуманного образа. Он только терялся в непонимании ситуации, и чуть затянувшаяся их история, о которой, как показалось Серафиму, и спрашивал недавно его соперник, намекая неизвестно на что, имела в своей кульминационной развязке совсем незначительный, однако вполне яркий и драматичный эпизод, который могли сочинить только эти двое комедиантов, а никак не многообразная, но скупая на выдумки жизнь.
Их театральная студия располагалась в подвале большого здания. Чтобы попасть в главное помещение, нужно было пройти длинным коридором с тремя поворотами, что само по себе являлось дивным представлением и заранее настраивало посетителей на экзотический фарс. Сценой был небольшой пятачок диаметром четыре-пять метров, а вокруг расставлялись кресла для зрителей, причём на таком расстоянии друг от друга, что ни до какого соседнего невозможно было дотянуться рукой.
Актёры могли использовать всё свободное пространство. Они носились и кричали рядом, задевали вас одеждой и чуть ли не локтями, а иногда и припадали к вам на плечо, утирая слёзы, если того требовала фабула постановки. Наверное, кого-нибудь из сидящих можно было и пожалеть, погладив его по голове, раз уж они допускали тут такие вольности. В принципе, такие мысли приходили в голову отдельным зрителям. Возможно, кого-то это трогало, оставляя в душе неизгладимый отпечаток: прикоснувшись к милому паяцу, можно было снять стресс, который, правда, тут же возникал с новой силой, когда прямо у вас над головой начинали громко бренчать какими-то кастрюлями. Большей частью постановки, как сумел понять Серафим, выливались в дикий шум или лежание актёров у ног зрителей, реже, когда сидением на приставных стульях с ними в обнимку, причём в течение долгих, вызывающих напряжение минут. И всегда вы уходили отсюда с мыслью о явном пренебрежении вашим комфортом и выводом, что больше сюда никогда и ни ногой. Но некоторым, правда, нравилось, и они возвращались. Приводили друзей, подруг, чтобы удивить их, скорее всего, ярким модерном. А уж если в двух шагах от вас актёры воодушевлённо оголяли зад (всё остальное было благоразумно прикрыто), то публика мгновенно делилась по типу приятия или неприятия новых тенденций на две категории, причём та категория, которая относилась к таким фокусам без раздражения, не всегда оказывалась в меньшинстве.
Итак, Серафим, побывав на нескольких таких подвальных балаганах, был уже и к такого рода искусству вполне привычным. То, что долго репетировала Эльвира с партнёром по роли, несколько отличалось от их обычного репертуара. Пьеса носила лирический характер – совсем не ярость раздражения, что они ему показывали, а тихая привязанность девочки к далёкому выдуманному образу, вокруг чего и строился весь «сюжет». Образ как бы совпадал чертами с её недавно погибшим другом. Она страдала. Тщетные попытки на простых, вполне земных примерах превратить мечты в радость жизни тяготили её, заставляя уходить в себя, и в то же время вызывали недоумение у её реального друга, делающего всё возможное, чтобы она ответила на его любовь.
Уже было, что Серафим заподозрил её в не совсем понятной для него неискренности, но потом стал думать об этом всё чаще и чаще.
В тот злополучный вечер он немного опоздал на премьеру. Когда он вошёл в зал, спектакль уже начался, и ему пришлось занять место в дальнем полукружье кресел, потому что его забронированное место у самого края сцены было кем-то занято. Сначала он не обратил внимания на того зрителя, но вдруг уловил в нём знакомые черты и понял, что это Эльвирин партнёр по роли. Он просто уселся там как незанятый в эпизоде, а потом периодически вставал, вливаясь в действие, и после возвращался на место, когда его присутствие на сцене не требовалось. При этом она как бы мысленно обращалась к нему, простирая в его сторону руки, устремляя на него полные страсти и горечи взгляды, и Серафим пожалел, что в этот самый главный для него момент не оказался там, где он должен быть.
Чёрт возьми, вот неудача! Как же его угораздило именно сегодня задержаться на работе? Хотя он уже не придавал встречам с ней большого значения, но всё-таки. Вдруг сегодняшняя премьера оказалась бы переломным моментом в их отношениях. Ведь он её всё ещё любит, он её ревнует к этому актёришке, уныло наблюдающему, как страдает его девушка, как она старается сейчас охватить своим отчаянием пустоту. Он бы точно не был там пустым местом. Может, и ему не хватало чего-то иррационального, возвышенного, чтобы встряхнуть её потом самой обычной земной страстью и заставить подчиниться этой страсти на долгие месяцы.
Минут двадцать он вертелся в отдалении, наблюдая происходящее. Только по прошествии некоторого времени более или менее стало ясно, в чём там заключается смысл.
Вот она бросилась к ногам актёра, как раскаявшаяся. Истинное страдание отразилось на её лице, не поймёшь, что там было правдой, а что вымыслом. Она положила ладони на его коленки и умоляюще посмотрела ему в глаза, ожидая отклика на этот импульсивный жест отчаяния. У Серафима сжалось сердце. Предназначались ли эмоции ему или всё сводилось только к гениальному её перевоплощению? Знает ли она, что он находится в зале? Какова перспектива их отношений, если она готова публично его смущать, заставлять испытывать волнение и без лишнего лукавства намеренно вводить его в краску? Он был обескуражен увиденным, скорее даже поражён. Её партнёр по сцене не двигался, а она его зримо любила, увиваясь рядом, очерчивая руками его контур, будто предмет её любви воображаемый.
Если бы он не знал её настоящей страсти, он не придал бы этой сцене большого значения. Но то, что она выражала так сильно и качественно, не могло относиться к любому оказавшемуся в данном кресле человеку. Она обращалась теперь именно к тому, кто там сидел, именно к этому парню были направлены её просьбы и мольба. Кто знает, может, для неё даже лучше было, что там не оказалось Серафима и ей не пришлось кривить душой. Может, именно поэтому её игра выглядела такой яркой, потрясающей.
В тот момент он понял, какая она на самом деле горячая. Какой сгусток страсти таит в себе не раскрытая в актёрском ремесле её душа, когда, паясничая, она вызывает на откровенность, а прибегая к словам, непосредственно имеет в виду любовь, в её смысле означающую действия, чуть-чуть не доходящие до акта бурного соития. Скорее всего, в них не важны формальные признаки лояльности: уровень знаний, набожность, степень честолюбия, форма носа или цвет глаз. Наверное, они бы усилили её реакцию, но в целом достаточно было просто занять нужное место – тогда вы автоматически становились предметом её страсти. И если бы перед ней сидел чуть более смазливый и мягкий, чем её партнёр, юноша, вполне возможно, тот удостоился бы более прямого, контактного, выражения её чувств и долго вспоминал бы после, как оказался втянутым в действие спектакля, сражённый необычной развязностью главной героини.
В целом картина не выглядела вызывающей, но для него явилась шоком. Та грань, что существует между актёрством и правдой жизни, стёрлась перед ним мгновенно. Она предстала вульгарным существом и пала в его глазах, достигнув вершины исполнительского мастерства. Не зря говорят, что лучше всего у актёров получаются роли, когда они играют самих себя. Он окончательно пропитался её лицедейством, не зная, как встряхнуться от этого кошмарного сна. Всё, что лилось из её уст, что творилось ею до премьеры и после, обрело вдруг некий угрожающий смысл. Это было что-то чуждое ему, неестественное, мнимое и бесцельное, годное лишь для сцены, но никак не подходящее для нормальных человеческих отношений. Она упивалась игрой, а ему стало противно. Он чувствовал, что не сможет уже выносить её рядом с собой.
Больше они ни разу не встречались.
Ханох Дашевский

Поэт, переводчик, писатель и публицист. Член Союза русскоязычных писателей Израиля (СРПИ), Международного союза писателей Иерусалима, Международной гильдии писателей (Германия), Интернационального Союза писателей (Москва), Союза писателей XXI века (Москва), Литературного объединения «Столица» (Иерусалим). Родился в Риге. Учился в Латвийском университете. Участвовал в еврейском национальном движении, являлся одним из руководителей нелегального литературно-художественного семинара «Рижские чтения по иудаике». Живёт в Израиле с 1988 г. Автор шести книг поэтических переводов, а также романов «Сертификат» и «Долина костей», вошедших в дилогию «Дыхание жизни». Лауреат премии СРПИ им. Давида Самойлова, лауреат премии «Русское литературное слово», номинант на премию Российской гильдии мастеров перевода.
«Ты не услышишь, как тебя зову я…»
Ты не услышишь, как тебя зову я.Ты далеко, в краю бессмертных лилий,Где нет движенья, где часы застылиИ где не слышно звука поцелуя.Ты не узнаешь, как я жду, тоскуя,В ночи, где нет просвета, как в могиле,Чтобы лучи рассвета растопилиМрак ледяной души моей, ликуя.Услышу, как зарю встречает птица,Почувствую, как лёд тяжёлый тает,Увижу, как весенний свет струится.И только шрам один не зарастаетНа коже сердца. Кровью он сочитсяВ груди моей, и сердце умирает.«Я увидал тебя в твоей печали…»
Я увидал тебя в твоей печали.Ты, как голубка, голову склонила.Казалось, ты молчание хранила,И только губы шёпотом кричали.Глаза, что так восторженно сияли,Какое их несчастье ослепило?Какая мука пролила чернилаНа хризолиты, яркие вначале?Прислушайся! За нашей жизнью с гикомОрда степями бешеная скачетИ травы топчет в исступленье диком.А мир в земле трусливо взоры прячет,И, слух заткнув и просветляясь ликом,По нашим мёртвым ни один не плачет.«Ладья судьбы нас в океан уносит…»
Ладья судьбы нас в океан уносит.Бездонны его мрачные глубины.А рык могуч и страшен, словно львиный.Разинув пасть, он плоти нашей просит.Коса стальная неустанно косит,Выкашивая горы и долины,И понапрасну голос лебединыйО милости немилосердных просит.Где нам найти убежище от страха,Песок, в котором голову укроем,Чтобы не видеть тления и краха?Над нами вьются неотвязным роемИсчадья бездны, дети тьмы и праха,И свод небесный дышит адским зноем.«На гроб надежды глыбу положите…»
На гроб надежды глыбу положите.Заплачут погребальным плачем струны,И выйдет свет, неведомый, не лунный,И от него спасения не ждите.И профиль твой, что высечен в гранитеМоей души окаменелой, юный —Его заденет этот свет чугунный,Безжалостно сияющий в зените.Не нам, не нам зарю увидеть вскоре,Не нам вдыхать смолистый запах леса,Не услыхать, как где-то плещет море.Мы получаем всё без недовеса:Нужду и страх, отчаянье и горе,И не спадает чёрная завеса.«Густая синь небес зовёт к покою…»
Густая синь небес зовёт к покою,Смолистый запах сосен лечит раны,Но это всё мираж фата-морганы,Лишь стоит протереть глаза рукою.Тогда увидим пламя над рекою,Несущей мёртвых в красные туманы,И место, где наш дом обетованныйЛежит в пыли руиною нагою.Под знаком смерти всё живое бродит,И чёрный жнец, серпом своим сверкая,За жатвою кровавою приходит.И молотом от края и до краяМолотобоец бешеный молотит,Дробя тела и кости в прах стирая.«Не устаёт ещё весло Харона…»
Не устаёт ещё весло ХаронаВести ладью, гружённую тенями,По мёртвым водам Стикса, и над намиПо-прежнему раскрыта пасть дракона.Ещё блестит фальшивая корона,И города усеяны огнями,Но воцарился наглый идол в Храме,И больше нет ни Бога, ни закона.Куда идти, когда приют надёжный,Хранимый в сердце, перестал быть домомИ над святым глумится пафос ложный?Когда весь мир становится Содомом,И блеск загублен мишурой ничтожной,И страха нет перед Небесным громом?«Своих птенцов спасти не может птица…»
Своих птенцов спасти не может птица:Крылами бьётся, над гнездом летая.А коршунов уже кружится стая,И по стволу сосны ползёт куница.Взлететь бы им и в солнце раствориться,Лучами стать и вечно жить, блистая,Чтоб лёд души, в небесном свете тая,Горячей кровью смог бы в вены влиться.Не слышно больше птичьего напева.Разорено гнездо. Погибли птицы.И только хищник набивает чрево.Земля рычит рычанием тигрицы,Змея обвила молодое древо,И подступают вражьи колесницы.«Твой лик живой, что сновиденьем ранит…»
Твой лик живой, что сновиденьем ранит,Под утро тает в розовом тумане,И не зажить вовеки этой ране,Пока мне ангел смерти не предстанет.Тогда печаль со мною в вечность канет.И, завершив свой путь среди пираний,Душа покинет мир нужды и браниИ снова в мире истины воспрянет.Уже давно схлестнулись перепутья,Но до сих пор не кончилась дорога,И всё ещё свистят стальные прутья.И не утихла чёрная тревога,Что, разменяв дни жизни на лоскутья,Встаём мы у последнего порога.«Под громкий выстрел пуля в сердце метит…»
Под громкий выстрел пуля в сердце метит,Бесшумно нож летит, вонзаясь в тело.Пока молчанье ртом не завладело,Спроси у Бога, кто за всё ответит.Когда в глаза пожар кровавый светит,Когда огню и лаве нет предела,Пока ещё гортань не онемела,Спроси у Бога, кто за всё ответит.Когда придёт герой убить дракона?Где исполин, который зло задушитИ с корнем вырвет жало скорпиона?Или в борьбе он мощь свою иссушит,И Божьего не поколеблет трона,И небеса на землю не обрушит?«Когда в руинах прошлого, во мраке…»
Когда в руинах прошлого, во мракеМы ищем свет, осколки подбирая,Нас обвевают не зефиры рая,А мерзкое дыхание клоаки.Отыщем ли таинственные знаки,В скитаньях нить волшебную теряя?Над нами небо чёрное без края,А в нём хвосты комет и зодиаки.Таков наш путь от самой колыбели:В борьбе с судьбой напрасно тратим силыИ падаем, не достигая цели.Она видна, но, вымотав все жилы,Мы вертимся в проклятой карусели,А впереди – раскрытый зев могилы.«Бездонны чаши глаз её, в которых…»
Бездонны чаши глаз её, в которыхЖивая влага по утрам разлита:Сияние лазури и нефрита.А по ночам луна плывёт в озёрах.Такого не найти в земных просторах,Рождённого звездою монолита,Где гамма цвета искрами расшитаВ летящих прямо к сердцу метеорах.Они опасны, ибо изнеможетДуша под ними, не сдержав напора,Когда огонь и днём и ночью гложет.И это только часть того узора,Что ткёт Лилит. Она добычу множитУбийственным очарованьем взора.«В Долине смерти тишиною стянут…»
В Долине смерти тишиною стянутОхват железный сумрачного склона.Костями здесь усеяно всё лоно,И не восходят травы – только вянут.Но будет день, когда они восстанут,Сухие кости. Упадёт коронаЦарицы Ночи. Сморщится Горгона.И демоны забвенья в бездну канут.Так сбудется видение пророка:Оденут плоть и кожа эти кости,И только мы не знаем дня и срока.И продолжаем в ярости и злостиОдин другого попирать жестоко,Забыв, что всех ждут черви на погосте.«И снова сон, что я иду с тобою…»
И снова сон, что я иду с тобою.Нет никого – лишь солнце и свобода.А далеко, у края небосвода,На горизонте – облака гурьбою.Беспечны мы под кровлей голубою.Не видим, как меняется природа,Как вся лазурь небесного обводаВнезапно хмарью сделалась слепою.Исчезли кроны солнечного леса,И сумрак опускается железный,И разделяет чёрная завеса.Она стоит в глазах стеной отвесной,Её раствором адского замесаСкрепила ночь, исторгнутая бездной.Надежда Калинина

Надежда Калинина (Минеева) родилась в посёлке Алексеевский Калужской области. Живёт в Санкт-Петербурге, состояла в группе русских литераторов. С одиннадцати лет печаталась в районной газете «Искра». С 2022 года публикует стихи в сборниках издательства «Четыре» (СПб.), лауреат премии «Призвание – писатель» (2022), награждена знаком «Золотое перо России» (2024). О себе говорит неохотно: всё сказано в стихах. Любит поэзию Владимира Маяковского, Игоря Северянина, Михаила Лермонтова, а особенно – Марины Цветаевой. Не пишет, когда может не писать. А сейчас, видно, пришло время поделиться жизненным опытом. Хочется надеяться, что в стихах автора читатели найдут что-то близкое своей душе, что заставит задуматься и помечтать.
«Средь жизни суеты живём, как выживаем…»
Средь жизни суеты живём, как выживаем.Обломаны крыла у трепетной мечты,Мы ходим по земле, мы больше не летаем,На белой полосе всё ж нюхаем цветы,И греем солнца луч на загорелом теле,И любим тёплый дождь, чтоб плакать, не таясь,И праздник-выходной когда среди недели.На чёрной полосе стараясь не упасть,Наедине с собой почти что не бываем,Мы глушим тишину «платформой счастья – дзен».Средь жизни суеты живём иль выживаем,Забравшись в виртуал от тысячи проблем.«Я прикинусь сибирским валенком…»
Я прикинусь сибирским валенком,Когда ветер слезой из глаз,Когда знаешь всё о проталинках,Но по горло в снегу увяз,Я приду, коль запахнет жареным:Тёплый валенок в жгучий снег,У своей судьбы на экзаменахИ с надеждою на успех.Мимо пусть каблучки всё модные:От мороза покруче дрожь,Ведь зима такая холодная,Как без валенок ты живёшь?Я прикинусь сибирским валенком,И Господь мне простит тот грех,Ты же сразу поймёшь, не маленький:Для тебя я теплее всех.«Нам тесно и в квартирах, и в трамваях…»
Нам тесно и в квартирах, и в трамваях,Томимся мы в очередях к врачу,На митингах друг друга мы толкаем,Но зажигаем вдруг в ночи свечу,Молитвою печалимся в ней Богу:Спаси от одиночества души.Загадка жизни – нас на свете много,Но близкого попробуй отыщи.В объятьях отражающего слояМы проживаем каждый по себе,Иллюзии о близости всё ж строим,А повезёт, поклоны бьём судьбе.Тепла так не хватает нам в юдоли.Похоже, безусловной любви нет,И сердце разрывается от боли,И не такой уж белый – белый свет.«Не для меня ты в этом мире, увы, живёшь…»
Не для меня ты в этом мире, увы, живёшь.Сегодня в Северной Пальмире случился дождь,И этот дождь как искуситель души моей,Как на дозвоне слово «ждите…», зимой апрель,Не перейти, не переплюнуть – дан свыше март,Судьбой разложена колода краплёных карт,Я в прошлой жизни прогадала на счастье шанс,Есть в этом мире сердцу милый, но здесь нет нас…И не шепчи ты его имя, мне больно, дождь,Иди себе, пусть даже ливнем, куда идёшь.«Разум мой проводит клининг…»
Разум мой проводит клининг,Обо мне творя заботу,Птиц давно он вымел синих:Не способны на работу.А теперь твой образ милыйОн упрямо размывает,Мол, не трать на это силы,Мол, такого не бывает.Я, конечно, понимаю,Сколько можно мне томиться,Но стерильность убиваетОщущением больницы.Пыль в глаза себе пускаю,Разум мой, оставь потуги,Лет десяток помечтаюИ к Альцгеймеру в подруги.Карма
О, как суровы небесаК моей души ошибкам давним,Но я всё ж верю в чудеса,Хоть вижу – ангелы печальны.И носится моя мечтаСредь облаков густых, курчавых,Она земна, она проста,Но облака так величавоВдруг уплывают в никуда,Ну а мечта мне в сердце птицей,Что упорхнула из гнезда,Чтобы с добычей воротиться.Да потемнели небеса,Деревьев не приветны кроны,Голубка – светлая мечта —Вдруг растерялась, как ворона.Вот отчего на сердце боль,Пишу печальные я строки,Там, где обещана любовь,Там я безбожно одинока.