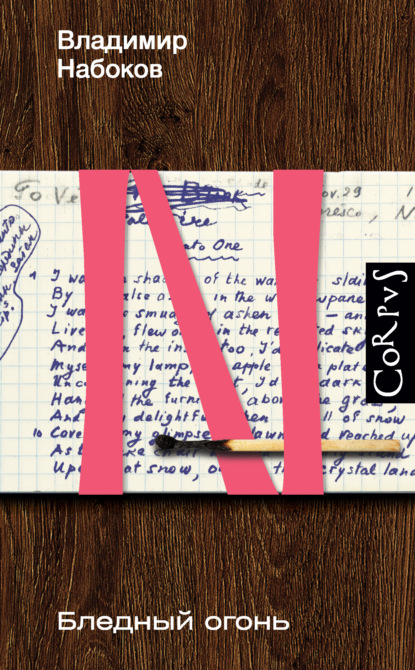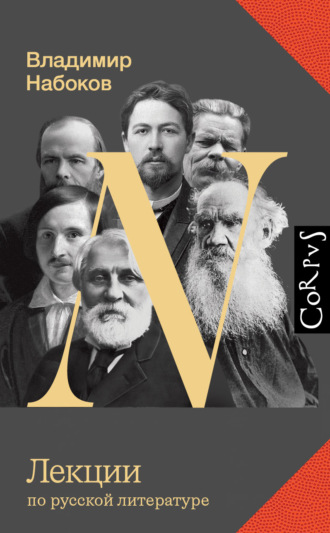
Полная версия
Лекции по русской литературе
23
Nabokov V. Strong Opinions. N. Y.: Vintage, 1990. P. 5.(Пер. мой. – А. Б.)
24
Дмитрий Набоков указывает, что в числе авторов, о которых Набоков читал лекции в Корнелле, были Пушкин, Жуковский, Карамзин, Грибоедов, Крылов, Лермонтов, Тютчев, Державин, протопоп Аввакум, Батюшков, Гнедич, Фонвизин, Фет, Лесков, Блок и Гончаров. Если все они включались в один лекционный курс, то это мог быть лишь короткий обзор. Весной 1952 г., читая курс в Гарварде как приглашенный лектор, Набоков посвятил Пушкину отдельный семинар, – вероятно, на основе материалов, которые он собирал для своего издания [комментированного перевода] «Евгения Онегина».(Прим. Ф. Боуэрса.)
25
Эти материалы сохранились. См. открывающую настоящий том заметку «От редактора настоящего издания».
26
«Nikolai Gogol» (1944). Переиздана в серии «Набоковский корпус» (2025).
27
Nabokov V. Strong Opinions. P. 5.