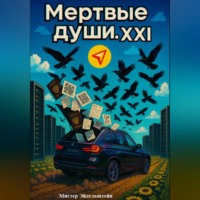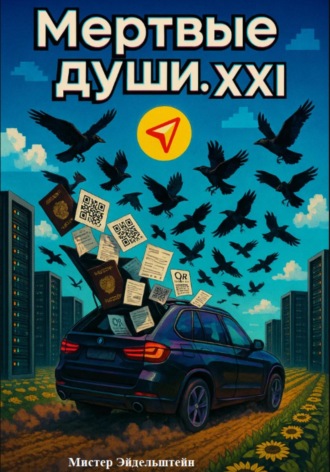
Полная версия
Мертвые души. XXI Век

Мистер Эйдельштейн
Мертвые души. XXI Век
Глава 1: Цифровая бричка и аромат амбиций
Павел Иванович Чичиков, небрежно откинувшись на спинку эргономичного кресла, отхлебнул овсяно-соевый раф с щепоткой корицы. Овсяно-соевый. Семьсот рублей. В коворкинге «Хлеб на Набережной», расположенном в отреставрированном здании бывшего завода на «Красном Октябре», воздух был настолько плотным от смеси ароматов свежемолотого кофе, дорогого парфюма и невысказанных амбиций, что казалось, его можно было резать ножом. Вокруг него, словно пчелы над цветком, жужжали молодые стартаперы: кто-то размахивал руками, объясняя прелести блокчейн-технологий для сельского хозяйства, кто-то сосредоточенно стучал по клавиатуре, в очередной раз переписывая код для приложения по доставке крафтовых носков.
Чичиков чувствовал себя среди них пришельцем. Не потому, что был старше – хотя его тридцать пять лет, в этом кругу, где средний возраст едва переваливал за двадцать два, казались солидным возрастом. Он был пришельцем по сути. Его амбиции были не в том, чтобы создавать новое, а в том, чтобы извлекать, трансформировать, конвертировать. Он был не инженером, а алхимиком современности, способным превращать пыль в золото.
Он машинально пролистывал ленту новостей на своем MacBook Pro, который, казалось, излучал едва уловимое свечение – то ли от дорогого покрытия, то ли от вложенных в него средств. Котировки криптовалют, стремительно взлетающие и так же стремительно падающие, как дешевые фейерверки; курсы доллара, скачущие в серых обменниках, как дикие лошади; бесконечные заголовки о новых технологиях, стартапах, инвестициях, IPO. Все это мелькало перед его глазами, но не вызывало должного отклика. Это был лишь фон, декорации для его истинной игры.
Внешне Павел Иванович был безупречен. Образец успешного предпринимателя, выписанный из глянцевого журнала. Идеально выверенная стрижка, подчеркивающая правильные черты лица; дорогой кашемировый свитер нейтрального цвета, который, казалось, сам по себе излучал статус; часы швейцарского бренда, известного лишь узкому кругу ценителей, – все это создавало образ человека, который достиг всего своим умом и трудом. Но под этой безупречной поверхностью бился ум, отточенный на куда более приземленных и опасных сделках: полулегальных махинациях с нефтепродуктами в лихие девяностые, хитроумных тендерах на поставку самой обычной мебели для казенных учреждений, где главное было не качество, а умение «договориться».
И вот, среди этого потока информации, его взгляд зацепился за заголовок, выделенный жирным шрифтом и ярким баннером: «Фонд „Цифровая Русь“ объявляет о запуске пилотной программы „Национальный ИИ“. Крупные IT-компании, обладающие уникальными Big Data для обучения нейросетей, могут претендовать на субсидии в размере до 500 миллионов рублей».
Чичиков не был технарем. Он едва ли мог отличить Python от Java, и даже понятия «нейросеть» для него были лишь модным словом, которым сыпали все вокруг. Он не строил алгоритмы, не писал коды. Он был гениальным спекулянтом. Его мозг, привыкший видеть невидимые связи и оценивать скрытые возможности, мгновенно просек суть. «Big Data… Уникальные пользователи… Обучение нейросетей… Субсидии…» – эти слова завертелись в его сознании, как частицы в центрифуге, сбиваясь в единую, безумную, но невероятно блестящую идею.
Он закрыл глаза, позволяя своему воображению развернуться в полную силу. Он представил себе бескрайние цифровые поля России, заселенные миллионами призраков. Людей, чьи жизни давно оборвались, чьи тела истлели в земле, но чьи цифровые следы – паспортные данные, номера СНИЛС, старые профили в социальных сетях, записи в государственных и банковских базах данных – продолжали жить своей собственной, призрачной, вегетативной жизнью. Они были невидимы для живых, но вездесущи в цифровом пространстве. Они не жаловались, не требовали зарплат, не увольнялись, не болели. Они были идеальными «пользователями» – безмолвными, послушными, вечными. Мертвыми душами цифровой эры.
Идея захватила его целиком, подобно тому, как кристалл образуется в перенасыщенном растворе, мгновенно, неотвратимо. План созрел. Он будет объезжать регионы, находить там современных «помещиков» – тех, кто владеет разваливающимися заводами, заброшенными агрохолдингами, пустыми базами отдыха, – и скупит у них по дешевке архивы данных их бывших сотрудников, клиентов, партнеров. Людей, чьи следы остались в их старых системах, кто уже давно забыт, но чьи данные все еще где-то хранятся.
Затем, упаковав эти несметные, но никому не нужные теперь данные в красивую, блестящую презентацию, он создаст фейковый стартап, специализирующийся на «инновационных решениях для анализа больших данных». Он убедит фонд «Цифровая Русь», что именно его база данных – уникальна, полна «живых» (хотя и мертвых) пользователей, идеальна для обучения искусственного интеллекта. Получит грант в полмиллиарда рублей. И исчезнет. Испарится, как утренний туман, оставив после себя лишь отчеты и пустые обещания.
Чичиков открыл глаза. Корица в его рафе отдавала чем-то горьким, но это лишь добавляло пикантности. Он почувствовал знакомый прилив адреналина, предвкушение игры, которая обещала быть самой масштабной в его карьере. Его взгляд скользнул по соседнему столику, где за ноутбуком склонился молодой человек с горящими глазами, увлеченно рассказывающий по телефону о «децентрализованных финансовых потоках». Павел Иванович усмехнулся. Это были дети, играющие в песочнице. Его песочница была куда больше и куда опаснее.
Он вспомнил свой прошлый, куда более скромный успех, когда он продавал несуществующие рекламные площади в интернете фиктивным компаниям. Или когда он помог одному провинциальному чиновнику «оптимизировать» бюджет на ремонт дорог, перенаправив львиную долю средств на счет фирмы-однодневки, зарегистрированной на подставное лицо. Это были детские шалости по сравнению с тем, что он замышлял сейчас. Этот грант, эта сумма – это был не просто куш, это был пропуск в высшую лигу.
Чичиков вспомнил, как впервые столкнулся с понятием «Big Data» пару лет назад. Тогда он еще пытался понять, как это работает, как эти огромные массивы информации можно использовать. Он читал статьи, слушал вебинары, даже посетил пару конференций, где его, со своим классическим костюмом, принимали за какого-то старого бизнес-ангела, забредшего не туда. И тогда он понял, что главное в Big Data – это не сами данные, а их владелец. И не столько их уникальность, сколько их «ликвидность». А что может быть более ликвидным, чем информация о людях, которых уже никто не ищет, но которые все еще существуют в каких-то базах?
Его пальцы забегали по клавиатуре, открывая новый документ. Он уже начал составлять список потенциальных «поставщиков». Первым, конечно, приходил на ум Манилов. Этот вечный мечтатель, владелец огромного, но давно заброшенного поместья, где, по слухам, остались еще старые архивы со времен его деда, когда-то управлявшего крестьянами, а теперь – землей, которую он, кажется, собирался превратить в «экосистему умного дома» с помощью какого-то нового, но явно бессмысленного стартапа. Манилов, скорее всего, отдаст свои данные бесплатно, лишь бы кто-то выслушал его бесконечные, пустые проекты.
Затем – Коробочка. Эта чудаковатая женщина, живущая где-то в глуши, которая, как говорили, хранила все, что когда-либо ей принадлежало, в том числе и данные о своих клиентах, которые когда-то покупали у нее мед или что-то еще. Она была подозрительной, но прагматичной. С ней придется повозиться.
Ноздрев. Этот вечно пьяный, вечно в долгах, вечно во что-то ввязывающийся авантюрист. Если он сейчас увлекся криптовалютами, то наверняка где-то хранит все свои транзакции, все свои «инвестиции», все данные своих «партнеров». Это будет нелегкая добыча, но и самая ценная.
Собакевич. Угрюмый, как скала, бывший силовик, владеющий каким-то старым заводом, который, судя по всему, давно уже не функционирует. Он наверняка хранит все данные о своих бывших работниках, о каких-то старых контрактах. С ним придется говорить на другом языке, языке силы и уверенности.
И, конечно, Плюшкин. Этот современный Плюшкин, который, как шептались, превратил свой дом в склад цифрового хлама, старых жестких дисков, забытых флешек, архивов каких-то никому не нужных сайтов. Это была настоящая цифровая свалка, и где-то там, среди этого мусора, наверняка скрывались настоящие сокровища.
Чичиков улыбнулся. Все они были там, в его воображении, словно персонажи гоголевской поэмы, только ожившие в новом, цифровом обличье. Их слабости, их одержимости, их неумение управлять своим «цифровым наследством» – все это играло ему на руку. Он был тем, кто пришел собрать урожай с полей, давно забытых их хозяевами.
Он снова взглянул на заголовок о фонде «Цифровая Русь». 500 миллионов. Это была не просто сумма, это была свобода. Свобода от мелких махинаций, свобода от постоянного страха быть пойманным. Это был билет в мир, где такие, как он, могли не просто выживать, но и процветать, управляя потоками информации, словно капитаны кораблей в бушующем океане данных.
Он отпил остатки своего рафа. Вкус был горьковатым, но перспектива – сладкой. Горький привкус корицы смешивался с привкусом решимости. Он знал, что путь будет непростым. Ему придется быть обаятельным, убедительным, напористым, а иногда и откровенно лживым. Ему придется входить в доверие, играть на чужих слабостях, подстраиваться под каждого «помещика». Но он был к этому готов. Он был рожден для этого. Аромат кофе и амбиций в коворкинге казался теперь не просто запахом, а предвестием большого дела. Он закрыл MacBook Pro, откинулся на спинку стула и уставился в окно, за которым текла Москва-река и сияли золотые купола Кремля. Он уже не видел их. Он видел себя за рулем своего подержанного BMW X5, несущимся по бескрайним российским просторам, как когда-то его литературный тезка на своей бричке. Только вместо запыленного цилиндра у него была кепка Dad cap, а вместо засаленного фрака в дорожном чемодане – дорогой спортивный костюм для поездок. Впереди ждали бескрайние просторы российской цифровой действительности, заселенные призраками прошлого. И он собирался собрать их всех.
«Мертвые души… – усмехнулся он про себя. – А почему бы и нет? Сами напрашиваются».
Его цифровая бричка была готова к выезду.
Глава 2. Манилов: Сахар в Instagram
(*Признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ).
Бричка-BMW, черная, как ночь, и стремительная, словно хищник, неслась по платной трассе М-11. Ровное, убаюкивающее гудение шин вторил пульсу самого Павла Ивановича, который, откинув водительское кресло в максимально комфортное положение, чувствовал себя капитаном на борту своего цифрового корабля. Одной рукой он уверенно покручивал кожаную баранку, другой – пролистывал ленту в Instagram *Признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ. За окном мелькали ухоженные заправки с фирменными кофейнями, сверкали стеклянные фасады строящихся логистических парков, кричали рекламные щиты, сулящие «доступную ипотеку» и «беззаботное цифровое будущее». Но душа Чичикова, привыкшая к иным, более острым ощущениям, не лежала к этим пресным, типовым пейзажам. Его манила настоящая, глубинная Россия – та, что прячется за глянцевым фасадом федеральных трасс, та, что хранит в себе нераскрытые тайны и неиспользованные ресурсы.
Он свернул по навигатору на, казалось бы, незаметный съезд, который, однако, был отмечен на его карте пунктиром – личным, специально разработанным маршрутом. Вскоре ровный асфальт М-11 сменился обыкновенной двухполосной дорогой, где асфальт уже был потрескавшимся, словно старая кожа, а вместо ярких, кричащих билбордов стояли скромные, пожелтевшие указатели с названиями деревень, которые сами по себе звучали как приговор: «Заблудино», «Кукуево», «Одиночка». Он ехал к Манилову.
Максим Маниловский, разумеется, не был помещиком в классическом понимании этого слова. Он был успешным (по крайней мере, на бумаге) владельцем агрохолдинга «Манилов-Агро», чьи амбиции простирались далеко за пределы его полуразрушенных владений. Чичиков познакомился с ним пару месяцев назад на какой-то пышной конференции по импортозамещению, где Манилов, под аккомпанемент итальянского вина, с упоением рассказывал о «возрождении русской деревни», «экологически чистом продукте» и «духовных скрепах», которые, как он считал, можно было вырастить на земле, как огурцы. Его речи были полны красивых слов, но пусты как пересохший колодец.
Коттеджный поселок «Маниловские дачи», где обитал этот современный мечтатель, встретил Чичикова идеальной, выверенной до миллиметра тишиной. Идеально ровные дорожки, подстриженные до состояния зеленого бархата газоны, ни единой соринки. Тишину нарушало лишь монотонное, ритмичное жужжание газонокосилки где-то вдалеке – звук, который, казалось, был призван подчеркнуть безупречность этого места. Дом Манилова, как и подобает человеку его склада, был выстроен в псевдоклассическом стиле, с белыми колоннами, имитирующими античность, и позолоченной кованой решеткой на массивных воротах, которая блестела на солнце, будто золотой зуб в беззубой пасти. Чичиков, припарковав свой BMW рядом с новеньким, сверкающим Lexus LX, принадлежавшим, скорее всего, жене Манилова, поправил воротник своего кашемирового свитера, ощущая себя немного неуютно в этой стерильной атмосфере, и нажал на кнопку звонка.
Дверь открылась почти мгновенно, будто хозяин, предугадав его прибытие, стоял за ней, затаив дыхание. – Павел! Брат! Наконец-то! – радушно, с широким, почти театральным размахом, его встретил сам Манилов. Он был одет в дорогие замшевые ботинки, брюки чиносы, идеально выглаженные, и свитер с V-образным вырезом, под которым виднелась тонкая золотая цепочка. – Заждался уже! Думал, заблудился ты где-то в наших глухих краях! Люда! – крикнул он вглубь дома, перекрывая своим громким голосом даже жужжание газонокосилки. – Гость к нам приехал! Чичиков, друг из Москвы!
Из гостиной, словно воплощение идеальной супруги из глянцевого журнала, вышла улыбающаяся женщина. Ее лицо, кажется, было настолько тщательно обработано филлерами и лазером, что приобрело совершенную, кукольную гладкость, лишенную каких-либо живых эмоций. Людмила Маниловская. Она протянула Чичикову руку с идеальным, безупречным маникюром, каждый ноготок которого сиял, как драгоценный камень. – Мы так рады! Максим все время говорил, что такой интересный человек, обязательно должен к нам заехать, – произнесла она мелодичным, но каким-то механическим голосом. – Максим все то… – она запнулась, ища подходящее слово. – Максим все только и говорит, что о ваших московских проектах! – проговорила она сладким, певучим голосом, – это же просто гениально!
Чичиков, улыбаясь своей самой обезоруживающей улыбкой, пожал протянутую руку. – Людмила, очень приятно! Максим – человек с большим видением. Я всегда восхищался людьми, которые не боятся мечтать и воплощать свои самые смелые идеи в жизнь, – сказал он, подбирая слова, как драгоценные камни для ожерелья. – Особенно в такое непростое время, когда нужно возрождать нашу самобытность, наши традиции.
Чичикова провели в гостиную, где царил идеальный, но бездушный порядок. Дизайнерская мебель, огромная телевизионная панель, книжный шкаф, за стеклом которого красовались исключительно подарочные издания в золотых обрезах и корешки журналов Forbes. На стене висела большая картина – что-то абстрактное, в золотых тонах. Манилов, довольный комплиментом, хлопнул его по плечу. – Вот видишь, Люда! Я же говорил! Павел все понимает! Мы тут как раз думаем над новым направлением, – он подмигнул жене, затем снова повернулся к Чичикову. – Знаешь, Павел, я вот смотрю на эти поля, на эту землю. Душа радуется! Но ведь нужно идти вперед, нужно использовать современные технологии. Я вот думаю, создать «умную ферму». Понимаешь? Датчики на каждом растении, дроны, которые будут следить за погодой, за вредителями… И все это будет передавать данные на облачный сервер, где искусственный интеллект будет анализировать урожайность, оптимизировать полив…Чичиков слушал, кивая, и мысленно подсчитывал. «Умная ферма». «Датчики». «Облачный сервер». Это все звучало красиво, но за этим скрывалась рутина. А где рутина, там и данные. Старые данные. Данные о людях, которые когда-то работали на этой земле, которые обрабатывали эти поля, которые жили в этих деревнях. Он знал, что у таких, как Манилов, остались старые архивы, бумажные или электронные, которые пылятся где-то на чердаках или в заброшенных кабинетах. Это были ценные активы.
Манилов сделал паузу, сбавив пыл, спросил:
– Ну, как дорога? – начал засыпать вопросами Манилов, усаживая гостя в кожаное кресло. – Не заснул за рулем? Я вот недавно ездил в Питер, так на «автопилоте» чуть не уснул! Технологии, конечно, но расслабляют чересчур.
– Ничего, долетел на крыльях anticipation, – улыбнулся Чичиков, играя в свою роль. – Место у вас волшебное. Прямо дух России чувствуется.
– О, да! – оживился Манилов. – Мы тут как раз с Людочкой думаем проект запустить. Не коммерческий, конечно, для души. «Эко-духовный кластер». Чтобы горожане могли приехать, отдохнуть от цифры, поработать руками, грядку вскопать, баньку истопить… Возрождать традиции. Как ты думаешь?
– Гениально, – без запинки ответил Чичиков. – Именно то, чего всем не хватает. Особенно в нашу эпоху цифрового перегруза.
– Вот-вот! Я же говорил! – обрадовался Манилов, как будто Чичиков открыл ему великую истину. – Мы все бежим куда-то, все в гаджетах, а тут – простота, искренность, земля!
– Максим, возвращаясь к «умной ферме», это потрясающая идея! – искренне воскликнул Чичиков. – Вы, по сути, создаете новую экосистему. Но скажите, а как же люди? Те, кто раньше работал на этой земле? Есть ли у вас какие-то данные о них? Например, старые списки сотрудников, их контактная информация, может быть, какие-то их анкеты, которые заполнялись при приеме на работу? Это же бесценно для анализа, для понимания истории развития вашего агрохолдинга.
Манилов задумался, потирая подбородок. – Ну, Павел, что я могу сказать… Конечно, есть. Когда мы покупали эти земли, тут были старые предприятия, колхозы… Остались какие-то архивы, бумажные, конечно, в основном. Я, честно говоря, туда и не заглядывал. Это все так… несовременно. Ну, может, что-то и в электронном виде осталось, на старых серверах, которые пылятся где-то в подвале. Но кому это сейчас нужно? Чичиков почувствовал, как внутри него зародился тот самый сладкий вкус победы. – Максим, это именно то, что нужно! – его голос стал еще более убедительным, почти гипнотическим. – Это основа. Это те самые «корни», о которых вы говорили. Эти данные – они как зерно, которое нужно правильно посеять. Я бы с удовольствием помог вам собрать, оцифровать, структурировать эти старые базы данных. Мы можем создать для вашего агрохолдинга отдельный проект по «цифровой истории предприятия». Это будет выглядеть очень солидно, понимаете? И, возможно, поможет вам привлечь дополнительные инвестиции. Представьте, как это будет смотреться в презентации для инвесторов! Манилов, явно польщенный вниманием к своим «корням» и перспективой привлечения инвестиций, расплылся в довольной улыбке. – Павел, ты просто гений! Конечно, конечно! Я покажу тебе, где эти архивы. Там, правда, наверняка полный бардак, но ты же у нас специалист!
Чичиков с удовольствием кивнул. Бардак – это его стихия. И в этом бардаке он уже видел сокровища. Далее разговор тек плавно и бессмысленно, как сироп. Обсуждали криптовалюты (Манилов считал их «спекуляцией, не одухотворенной реальным активом»), новейший iPhone («мощно, но бездушно»), политику («надо укреплять вертикаль»). Чичиков кивал, поддакивал, вбрасывал изредка модные словечки вроде «ESG-повестка» и «устойчивое развитие», от чего Манилов приходил в полный восторг.
За обедом из фермерских продуктов (поданных на дизайнерской посуде) Чичиков решил, что пора.
Манилов смотрел на него с благоговением.
Через пятнадцать минут флешка с безнадежно устаревшей базой данных в формате DBF, содержащей сведения о всех когда-либо работавших в «Манилов-Агро» (включая давно умерших и уехавших), была в кармане Чичикова. Манилов даже не подумал спросить о деньгах. Он был счастлив принять участие в «великом проекте».
Прощаясь у машины, он еще долго жал руку Чичикову.
– Обязательно приезжай летом! На открытие кластера! Будем грядки копать!
– Непременно, – искренне улыбнулся Чичиков, заводя мотор.
Он выехал за ворота и, отъехав с километр, остановился на обочине. Достал флешку и посмотрел на нее. Кусок пластика с данными мертвых душ. Легко. Слишком легко.
Он вставил флешку в ноутбук, запустил скрипт для первичного анализа. Сотни записей. Десятки – с датами рождения в середине XX века. Идеально.
«Спасибо, Максим, – мысленно поблагодарил он наивного помещика. – Ты построил мне первый этаж моего финансового храма».
И BMW Чичикова плавно тронулся с места, увозя его дальше, на встречу с следующей главой его странной одиссеи – к Коробочке.
Глава 3: Коробочка: Мед и скепсис, или Цифровой мед из прошлого.
Навигатор, еще недавно уверенно рисующий четкую синюю линию по гладкому асфальту платной трассы, вдруг заупрямился. «Поиск альтернативного маршрута», – бесстрастно объявил электронный голос, и синяя нить, словно потеряв смысл жизни, уперлась в поля, обозначенные на карте бледно-желтым: «не асфальтированная дорога». Чичиков с раздражением шлепнул ладонью по рулю. Его черная, как смоль, BMW, призванная покорять любые дороги, теперь медленно, с каким-то тоскливым кряхтением, ползла по разбитой грунтовке, подпрыгивая на очередных ухабах и вызывая у него искреннюю жалость к своей безупречной подвеске.
Вокруг простиралась та самая, настоящая Россия, вид которой из кондиционированного, стерильного окна «Маниловских дач» казался идиллическим и далеким. Теперь же, из открытого окна, в салон проникали запахи, которые он уже почти забыл: запахи полей, заросших густым, высоким бурьяном, острый аромат прелой листвы, смешанный с запахом дыма от каких-то дальних костров и, конечно же, характерный, терпкий аромат навоза. Редкие, покосившиеся деревянные избы, словно забытые на обочине истории, встречались то тут, то там. Ленивые, упитанные коровы, невозмутимо махая хвостами, провожали взглядом проезжающую машину. Воздух был густым, тяжелым, пропитанным этой унылой, но какой-то мощной, первобытной реальностью. Чичиков почувствовал, как его стерильный, отполированный московский настрой начинает размываться этой картиной, словно акварель под дождем.
Его целью была Надежда Петровна Коробочкина. На первый взгляд, совершенно непримечательное имя в огромной базе данных Манилова. Она значилась там как один из мелких, но стабильных поставщиков меда для его корпоративных подарочных наборов. «ИП Коробочка Н.П. Традиционные продукты». Просто еще один маленький винтик в огромной машине Манилов-Агро, который, казалось, не представлял никакого интереса. Но Чичиков видел дальше, чем другие. Он знал, что за каждым таким «винтиком» скрываются следы, данные, истории. Свернув по указателю «Мед. Сено. Яйцо» – такому простому и прямолинейному, что он казался архаичным – Чичиков через пару сотен метров увидел то, что искал. Это был не дворец, не агрохолдинг, а небольшой, покосившийся домик с облупившейся краской, но с аккуратным, ухоженным огородом, где, казалось, каждая грядка была на своем месте. Рядом с домом, пристроенный к нему, стоял небольшой, но крепкий павильончик с выцветшей деревянной вывеской «От Надежды Петровны». К косяку этой вывески был приколочен терминал для безналичной оплаты – единственное, что напоминало о современном мире. Атмосфера была пропитана бедностью , но не нищетой; ощущалась убогая, но прочная, веками выверенная обустроенность.
На пороге дома, не отрываясь от своего занятия, стояла сама хозяйка. Женщина лет пятидесяти, одетая в простое, выцветшее платье и клетчатый платок, повязанный на голову, с лицом, испещренным сетью морщин, но с цепкими, живыми глазами, которые, казалось, моментально оценили и машину, и костюм, и самого приезжего. Надежда Петровна Коробочкина. Она перекладывала из пустого ведра в порожнее лукошки с яблоками, и каждое ее движение было точным, экономным, словно она не тратила ни капли лишней энергии.
– Надежда Петровна? – вежливо окликнул ее Чичиков, вылезая из машины и стараясь не наступить в лужу, которая, казалось, специально образовалась у самого края дороги, чтобы испытать приезжего.
– Я самая, – ответила она, не прекращая своей работы. Голос ее был спокойным, но в нем слышалась сталь. – Медку купить желаете? Липовый откачала недавно, душистый. Прямо с поля.
Чичиков подошел ближе, стараясь не показывать своего раздражения от долгой дороги и от того, что его, Павла Ивановича Чичикова, принимают за простого покупателя меда.