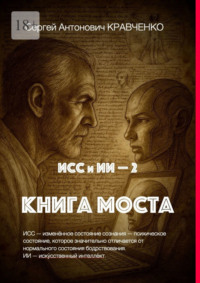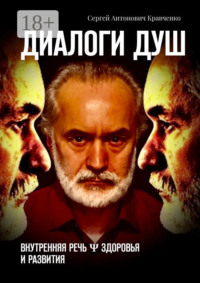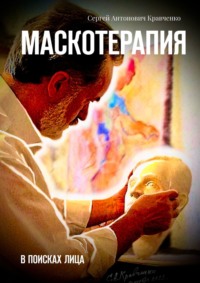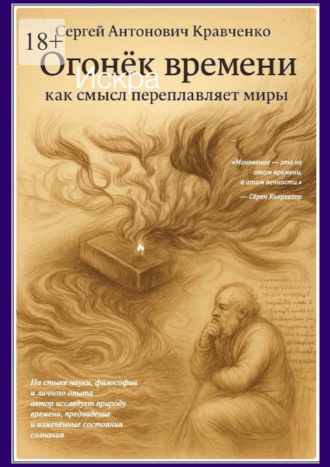
Полная версия
Огонек времени. Как смысл переплавляет миры
– Dias, B. & Ressler, K. J. «Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations» (implications for transgenerational epigenetic memory). (PubMed, PMC)
Глава 3. Изменённые состояния сознания и выход за пределы времени: опыт автора
«Если бы двери восприятия были очищены, всё предстало бы человеку таким, как оно есть – бесконечным.»
– Уильям Блейк
Изменённые состояния сознания (ИСС) для меня – не поэтическая метафора, а рабочая лаборатория. В них привычный ход времени распадается и отстраивается заново; в них исчезают границы «я», и прошлое, настоящее и будущее могут оказаться переплетёнными в одном переживании. Я приходил к этому постепенно – через практику, наблюдения и тысячи часов записи – и хочу описать здесь не только ощущения, но и то, как их можно сомерить с современными представлениями науки.
Моё знакомство с темой началось в двадцать лет с аутогенной тренировки. Эта методика стала моим ключом к внутренним состояниям: регулярная практика привела к устойчивым сдвигам восприятия, к возможностям входа в то, что я позже стал называть «точкой конверсии». Однажды во сне пришли числа – и их последовательность почти совпала с выигрышной комбинацией лотереи «Спортлото». Я проснулся, колеблясь, стоит ли записать их – и это колебание затуманило память; позже, через годы, похожий эпизод повторился с лотереей «Столото»: образ был, выигрыш имелся, но в обеих ситуациях вкралась ошибка – и я вынес из этого важный урок: сам факт переживания не даёт автоматической гарантии точности. Фиксация, протоколы, верификация – вот что отличает случайный образ от надёжного сигнала.
Заполярье стало моей «полярной» лабораторией времени. В длинных ночах, в тишине снега и ветра, я много читал и много писал – Юнга и Грофа, книги о коллективном бессознательном и о трансовых переживаниях. Груф (Stanislav Grof) дал мне карту состояний и практик, что позволило осмыслять переживания вне обычной когнитивной схемы. Кастанеда мне тогда казался скорее литературной реконструкцией, но в работах Грофа и Юнга я находил клинические и концептуальные опоры для того, что видел сам. (Holotropic Bohemia, SCIRP)
Практики, которыми я входил в ИСС, были разными: аутогенная тренировка, долгая сенсорная депривация, периоды целенаправленного переутомления при моих полярных экспедициях, медитации и целенаправленные ролевые техники. Каждый путь показывал одно и то же: временная структура переживания перестраивается – ритмы сознания меняют отношения между «до» и «после», и на место линейного хода приходит плотная ткань «настоящего», в которой прошлое и будущее присутствуют одновременно в разных качествах.
С современной нейронаукой эти наблюдения не противоречат друг другу – они дополняют друг друга. Есть надёжные данные, что «фоновые» сети мозга (особенно Default Mode Network) меняют свою активность в состояниях покоя, медитации и под воздействием психоделиков; эти перестройки коррелируют с изменением саморефлексии и восприятия времени. Raichle и его коллеги описали DMN как режим, присутствующий в покое и связаный с автопоэтическими процессами сознания; при переходе в задачи или в иные состояния его конфигурация изменяется. (PNAS) Более того, исследования медитативных практик показывают, что опытные практики регулярно ощущают «растяжение» времени и большую плотность настоящего. (PMC) Подобные перестройки фиксируются и при изучении эффектов психоделиков: они меняют функциональную связанность и динамическую сложность, что сопровождается отчётливыми трансформациями временного ощущения. (PNAS, PMC)
Я не возвожу ИСС в святилище истины: они – инструмент, и, как всякий инструмент, требуют знаний, техники и страховки. В клинической практике я неоднократно видел обратную сторону: для некоторых пациентов спонтанные «выпадения» в безвременье становились травмой. Люди теряли опоры, ощущали тень смерти, видели картины катастроф – переживания, которые разрушали их структуру жизни и вводили в депрессию или психоз. Эти наблюдения привели меня к двум важным выводам: 1) сопровождение и интеграция – обязательны; 2) нужны предохранительные техники, дающие опору личности при возвращении в обычное время.
Маскотерапия стала для меня именно таким страховочным «арсеналом». Под руководством её основателя Г. М. Назлояна я изучал и практиковал маскотерапевтическую работу долгие годы – вплоть до его кончины – и применял её как стабилизирующий элемент при работе с клиентами, пережившими глубокие ИСС. Маскотерапия в моём опыте – не просто творческая игра, а метод, позволяющий символически закрепить пережитое, вернуть границы «я» и дать образу безопасную форму интеграции. (Я изучал метод под руководством Назлояна и применял его в клинической практике.)
Переезд в Москву и встреча с Александром Петровичем Левичем, инициатором Института исследований природы времени, придали моей работе научный и организационный размах. В институте и позднее в созданном нами Международном Центре предвосхищения мы занялись систематизацией: сбором дневников, формализацией протоколов входа и выхода из ИСС, тестированием критериев верификации предвидений и применением экспертных систем и ИИ для анализа большого корпуса сигналов. Практика показала, что надёжность предвидения растёт с дисциплиной протокола: временные метки, независимая верификация, консенсус экспертов и статистические проверки снижают долю ошибочных интерпретаций.
Научно-теоретически я выдвинул гипотезу, которую назвал конденсат временной кристаллизации (КВК): в определённых условиях сознание и семантическая структура переживания достигают такой когерентности, что в «точке конверсии» образ приобретает повышенную статистическую связь с вероятным будущим. Это не алхимия и не магия – это рабочая модель, проверяемая через нейрофизиологию, семантический анализ и верификацию по базам событий. КВК – попытка связать феноменологию ИСС с реальными маркерами (ритмы theta/alpha, изменение организации DMN, показатели сложности и синхронности), и с методикой: протоколы, слепая проверка и ИИ-поддержка.
Важно подчеркнуть: я не утверждаю, что ИСС дают «правду» автоматически. Они дают возможность заметить сигналы и смыслы, которые вне практики остаются незаметными. Наша задача – вырастить надёжную методологию – как археолог чистит и фиксирует находку, прежде чем показывать её миру.
Наконец – философский штрих. Те, кто исследует сознание и время, часто спорят о границах научного объяснения. Я предлагаю практический компромисс: сохранять скепсис и методичность, но не закрывать дверь для феноменологии. Изменённые состояния дают доступ к опыту, который нельзя редуцировать заранее; наука снабжает инструменты для его фиксации и анализа; психотерапия предлагает способы интеграции и защиты личности. В этой тройке – эмпирия, теория и клиническая этика – я вижу путь, по которому можно идти аккуратно и смело одновременно.
Основные научные опоры, на которые опираюсь в этой главе:
– Stanislav Grof – работы по холотропному дыханию и картографии неординарных состояний сознания. (Holotropic Bohemia)
– C. G. Jung – концепция синхроничности как смысловой корреляции без явной причинно-следственной связи. (SCIRP)
– Raichle M. E. et al. – «A default mode of brain function» (описание DMN). (PNAS)
– Wittmann M. – исследования субъективного расширения времени у медитирующих практиков. (PMC)
– Современные обзоры по психоделикам и перестройке функциональной связанности (Carhart-Harris и др.). (PNAS, PMC)
Часть II. Время в науке
Глава 4. Классическая физика и «стрела времени»
«Энтропия Вселенной стремится к максимуму.»
– Рудольф Клаузиус
Когда я говорю с людьми о времени, первое сопротивление обычно появляется на уровне образа: многие всё ещё мыслят время как ровную реку, неспешно уносящую нас из прошлого в будущее. Этот ньютонианский образ – «абсолютного, истинного и математического времени», как писал Ньютон – удобен и прост. Он даёт нам шкалу для расчётов, часы и календари, по которым строится общественная жизнь. Однако реальность оказалась хитрее, и уже в XIX—XX веках нам пришлось принять: время не обязательно такое простое.
Стрела времени – от опыта к закону
Идея «стрелы времени» хорошо переводит научную проблему в образную плоскость. Артур Эддингтон, ещё в начале XX века, предложил эту метафору, чтобы подчеркнуть одну простую мысль: мир выглядит направленным – мы помним прошлое и ожидаем будущее; стакан, упавший на пол, не складывается заново; повара не возвращают густую похлёбку обратно в кастрюлю. Почему так? Ответ классической физики дал нам в формуле термодинамики: второе начало, рост энтропии, – и вместе с ним статистическая картина Лудвига Больцмана, объясняющая необратимость как дело вероятностей.
Здесь важно остановиться: микроскопические уравнения механики обратимы – их можно формально прогнать в обратном направлении, и они будут правы. Тем не менее макроскопическая картина – та, которую видит человек в своей жизни – закономерно нереверсивна. В этом месте физика встречается с философией: стрелу времени можно объяснить через статистику (упорядоченный набор микростанов – редкость; хаос – обыденность), но остаётся вопрос о том, почему в наших конкретных условиях начальное состояние часто оказывается более упорядоченным, чем последующие.
Против этой статистической картины ставили вызов Лошмидт и Пуанкаре: если уравнения обратимы, почему не наблюдаем обратных процессов? Почему не говорим о возвращении? Ответ включает в себя идеи о начальных условиях Вселенной и о масштабах вероятностей – вопрос не только математический, но и космологический. Так или иначе, в человеческом опыте «стрела» ощущается как факт – и её связь с энтропией даёт нам первое, физическое основание для необратимости.
Человек, память и направление – где «стрела» встречается с жизнью
Для психологии и для моих клинических наблюдений важно, что физическая стрелa оказывается тесно связана с информацией: рост энтропии похож на потерю информации о первоначальном порядке. Мы помним прошлое потому, что в нем записаны структуры – отпечатки упорядоченных состояний; будущее же богато возможностями, но бедно детерминированностью. В этом контексте память выступает как локальный «ретранслятор» порядка: она сохраняет последовательность событий и тем самым поддерживает субъективную направленность времени.
Однако человеческий опыт даёт и другие голоса. В глубокой печали прошлое тянет, в экстатическом творчестве настоящее растёт в бесконечность – и кажется, что стрелa временная временно притупляется. Эти феномены не противоречат физике; они указывают на то, что у времени есть как объективные, так и субъективные «грани» – и на том месте, где они встречаются, рождается поле для психологического и философского исследования.
Юнг и архетипическое время: круги смысла
Здесь я делаю шаг от физики к психологии, но не к антинаучной мистификации: Карл Густав Юнг вводит понятие архетипов – базовых универсальных структур смысла, «первичных образов», которые проявляются в мифах, снах и ритуалах. Для Юнга время не просто линейно: архетипы действуют «вне времени» и одновременно влияют на прошлое, настоящее и будущее, создавая повторяющиеся мотивы и циклы в жизни человека и коллективов.
Юнгианская перспектива даёт другую «стрелу»: не стрелу энтропии, а стрелу смысла. Там, где физика говорит о направлении изменения порядка, психология показывает, что человеческая история полна «возвращений» – повторяющихся символов, повторяющихся драм, которые не подчиняются простому закону вероятности. Эти повторения – проявления коллективного бессознательного, и в терапии они часто выглядят как «повторяющиеся сюжеты», которые необходимо распознать и переработать.
В моём опыте работы с пациентами архетипическое время проявляется ярко: символические повторения, неконтролируемые возвращения старых сюжетов, «как-будто-бы» ощущения, когда прошлое возвращается и «оживляет» настоящее. Это не противоречит физике – это другой уровень описания реальности, и оба уровня важны.
Соединение граней: энтропия, информация и смысл
Если мы попробуем связать ньютонианско-термодинамическую картину со юнгианской, увидим интересную возможность. Энтропия – мера неопределённости; смысл – локальное снижение неопределённости, акт упорядочивания информации. Когда коллективные архетипы срабатывают, они конденсируют смысл, создают устойчивые формы поведения и восприятия. В условиях, когда смысл локально высок, субъективное время приобретает другую плотность: память становится насыщенной, предвидение – значимым. Именно на этой «границе» – где статистика встречается с семантикой – я позже помещу понятие точки конверсии и рабочую гипотезу КВК (конденсат временной кристаллизации).
Практический и этический смысл «стрелы»
Понимание стрелы времени важно не только для физиков и философов – оно влияет на практику: терапевтические подходы, организационные решения, управление рисками. Если время в макроуровне тяготеет к большей неопределённости (энтропии), то люди и сообщества нуждаются в способах локально поддерживать порядок – внешне (структура, правила) и внутренне (символы, ритуалы, маскотерапия). В моём опыте восстановление личностных границ и интеграция пережитых ИСС проходят через работу с символами и смыслом – тем самым человек получает инструменты для навигации в мире, где стрелa времени остаётся реальной, но её эффекты можно смягчать и направлять.
Заключение и переход
Классическая картина «стрелы времени» даёт нам фундамент – термодинамический и статистический – для понимания необратимости. Юнгианская перспектива расширяет эту картину, вводя измерение смысла и архетипов, которые создают циклы и повторы в человеческой жизни. Вместе они подсказывают нам: время многослойно, и чтобы понять его, нужно уметь переключаться между уровнями описания.
В следующей главе мы перейдём к революции ХХ века: к Эйнштейну и идее пространства-времени, где «локальность» и «относительность» времени обретают конкретную математическую форму. Для нашей темы это важный шаг: он показывает, как физика раздвигает границы возможного, а мы – практики и философы – можем поднять инструменты и услышать, какие новые вопросы ставит перед нами сама ткань реальности.
Глава 5. Эйнштейн, относительность и пространство-время
«Различие между прошлым, настоящим и будущим – не более чем настойчиво удерживаемая иллюзия.»
– Альберт Эйнштейн
Начало XX века изменило моё представление о том, что такое «время» – так же радикально, как когда-то пламя изменяет облик металла. Альберт Эйнштейн показал, что время нельзя больше рассматривать как единый, универсальный фон. Вместе со пространством оно образует единое четырёхмерное полотно – пространство-время, и свойства этого полотна зависят от движения и массы. Это не художественная метафора, а математика с реальными следствиями: часы, идущие рядом, могут считать разное «время».
Я люблю две афористичные формулировки Эйнштейна; первая – её часто цитируют в классическом переводе:
«Время – это то, что измеряют часы».
Простая фраза, но по-моему, чрезвычайно важная: она напоминает, что «время» в физическом смысле определяется поведением конкретных систем (часов). Вторая, более рефлексивная мысль – о природе пространства и времени как форм нашего мышления – заставляет нас вспомнить, что многие понятия, которые мы считали абсолютными, могут оказаться условными в другом контексте. Наконец, его знаменитая оговорка о прошедшем, настоящем и будущем – «для нас верующих физиков различие между прошлым, настоящим и будущим есть лишь упорная иллюзия» – провоцирует философские вопросы, которые мы здесь не избегаем.
Что значит «относительность» на практике
В специальной теории относительности Эйнштейна центральна идея: законы природы одинаковы во всех инерциальных системах, а скорость света – константа. Отсюда вытекает разрушение абсолютной синхронности: два события, одновременные для одного наблюдателя, могут быть не-одновременными для другого, движущегося относительно первого. Впечатление «одного времени для всех» исчезает: время становится локальным, «собственным» для каждого мира-линии (worldline).
В общей теории относительности пространство-время становится динамичным: масса и энергия искривляют ткань, и это искривление влияет на пути, которыми идут объекты и свет, а следовательно – на ход локальных часов. Практически это не абстракция: эксперименты с точными атомными часами подтверждали замедление хода часов при увеличении скорости и вблизи массивных тел; глобальная система GPS работает лишь потому, что инженеры учитывают поправки как специальной, так и общей теории относительности.
Ещё один понятный образ – «собственное время» (proper time): это то «время», которое регистрирует конкретная часовня (часовой механизм, наблюдатель) вдоль своего пути в пространстве-времени. В терминах физики у каждого мира-линии своя собственная метрка – и она может отличаться от метрки другой линии, даже если линии начинались рядом.
Парадоксы и интуитивные встряски
Особую популярность получила мысл experiment – «парадокс близнецов» – когда один близнец уезжает на большой скорости и возвращается «младше» второго. Решение парадокса лежит в асимметрии событий (ускорение, смена инерциальной системы) и в том, что правильная модель требует учета не только скорости, но и геометрии траектории в пространстве-времени. Я часто возвращаюсь к этому примеру при обсуждениях с людьми: он хорошо показывает, насколько наш интуитивный «общечеловеческий» момент времени отличается от физического proper time.
Что это значит для нашего понимания времени как феномена?
Для меня как исследователя сознания и практиков ИСС есть несколько важных выводов.
– Локальность и множественность «времён». Относительность вводит мысль о том, что «время» – не единое свойство Вселенной, а множество локальных параметров, зависящих от траекторий и условий. Это созвучно моему разделению на исчисляемое и неисчисляемое время: физика показывает, что и «исчисляемое» само по себе не единственно.
– Право на корректный «порядок». Представление об однозначном порядке событий распадается – и это освобождает нас методологически: переживания, в которых порядок «прошлое—настоящее—будущее» меняется, больше не выглядят автоматически парадоксальными. Они укладываются в шире представление о локальных временных шкалах.
– Точка контакта науки и феноменологии. Если в физике «собственное время» – это инвариантная метрика вдоль траектории, то у субъекта есть собственное ощущение времени, тоже «инвариантное» для него самого. Здесь возможен диалог: биологические ритмы, нейрофизиологические маркеры и психические состояния – все они могут рассматриваться как «локальные часы» субъекта. Гипотеза КВК, в которой семантическая и нейрофизиологическая когерентность создаёт локальную «кристаллизацию» времени, в этом ключе читается как предложение, что в определённых условиях сознание может синхронизировать свои «часы» с информационно-значимыми паттернами реальности и тем самым повысить корреляцию с вероятностями события.
– Переосмысление причинности. Относительность не отменяет причинности, но усложняет её вид: «зависимость времён» заставляет нас внимательнее относиться к понятиям односторонней причинности и порядку событий, что также совпадает с феноменами синхроничности и предвидения – где связь между смыслом и событием может быть не линейной.
Этические и практические следствия
Для практики психотерапии и работы с ИСС это имеет следующие следствия. Во-первых, понимание локальности времени усиливает моё требование к точной фиксации: временные метки, контекст, состояние субъекта – всё это важно, потому что «часы» субъекта и «часы» внешней верификации могут идти по-разному. Во-вторых, относительность подсказывает осторожность при интерпретации «видений» и образов: совпадение по содержанию не всегда означает совпадение по одной и той же временной шкале. Наконец, теоретическое признание множественности времён даёт этическое основание для уважения субъективных переживаний; они перестают быть «ошибкой восприятия» и становятся предметом исследования.
Конец одного полотна – начало следующего
Эйнштейнова революция открыла дверь, за которой пространство и время перестали быть статичными сценами для действия. Оно стало плетением, которое реагирует и отвечает на массу и энергию. Для меня это не только физическая истина – это приглашение мыслить время как динамический ресурс, как пласт, который может локально уплотняться и редуцироваться, как кристалл, образующий узор в потоке. Именно от пространства-времени Эйнштейна ведёт путь к тем идеям, которые я исследую дальше: к квантовым феноменам, к временнЫм кристаллам и, на другом конце спектра, к феноменам сознания, где время перестаёт быть только измерением и становится средой смысла.
В следующей главе мы погрузимся в квантовую физику и квантовую запутанность: туда, где понятие времени вновь подвергается испытанию, и где появляются на удивление плодотворные аналогии с тем, что я наблюдал в ИСС.
Глава 6. Квантовая физика и квантовая запутанность
«Запутанность – характерная черта квантовой механики.»
– Эрвин Шрёдингер
В начале XX века физика столкнулась с тем, что по-человечески выглядит почти мистикой: микромир оказался устроен иначе, чем мы привыкли думать на основе повседневного опыта. Кванты, суперпозиции, скачки вероятностей – все это изменило наш язык о реальности. Для темы времени особо важен феномен квантовой запутанности: когда две (или более) системы становятся частью единого целого, измерение состояния одной мгновенно кореллирует с состоянием другой – независимо от того, как далеко они разделены.
Хочу подчеркнуть сразу две вещи, которые часто путают в популярном рассказе. Первая: запутанность – экспериментально подтверждённый факт (классические опыты – Aspect et al., 1982; многочисленные последующие работы устраняли различные «лазейки» в тестах неравенств Белла). Вторая: это не про передачу полезной информации быстрее света – теория и эксперименты согласованы с запретом на суперсветовую передачу сообщений. Запутанные корреляции реальны; передавать по ним управляемое сообщение нельзя. Эта тонкая, но принципиальная разница мы должны держать в уме, когда делаем метафоры и когда предложение переносим в область психологии.
Что показали опыты и зачем нам это знать
Серия экспериментов, в которых ключевую роль сыграли Aspect (1982) и гораздо позже «безлазейковые» проверки (Hensen et al., 2015 и др.), показала нарушение неравенств Белла – то есть квантовая механика требует от нас отказаться либо от локальности, либо от реалистического представления о свойствах частиц до измерения. Практически это значит: природа на фундаментальном уровне устроена иначе, чем мы интуитивно предполагаем; связи возможны «за пределами» локального пространства-времени в том смысле, что корреляции нельзя объяснить привычными локальными моделями.
Эти открытия породили технологический рывок: квантовая криптография (BB84 и последующие реализации) предлагает способы защищённой передачи ключей; квантовые вычисления используют суперпозицию и запутанность для решения задач, недоступных классическим машинам; и уже появляются квантовые сети – зачатки будущего распределённого квантового интернета. Практика и теория идут рядом: мы видим, что принципы квантовой механики работают в инженерных системах и могут быть использованы для новых классов технологий.
От физики к сознанию – где здесь разумная осторожность?
Для меня, как для исследователя времени и ИСС, естественно задаваться вопросом: если в физике есть нелокальные корреляции, не служит ли это метафорой (или даже моделью) для понимания глубинных связей между индивидуальными сознаниями? Этот вопрос звучит заманчиво и часто подогревается в публицистике и паранаучных дискуссиях. Но здесь нужна точная оговорка: перенесение понятий из одной предметной области в другую требует аккуратности. Квантовая запутанность – строго формальная вещь в контексте микроскопических систем; любая гипотеза о её роли в работе мозга или в связи сознаний должна выдерживать строгую эмпирическую проверку и уважать ограничения физики (включая запрет на суперсветовую передачу информации).