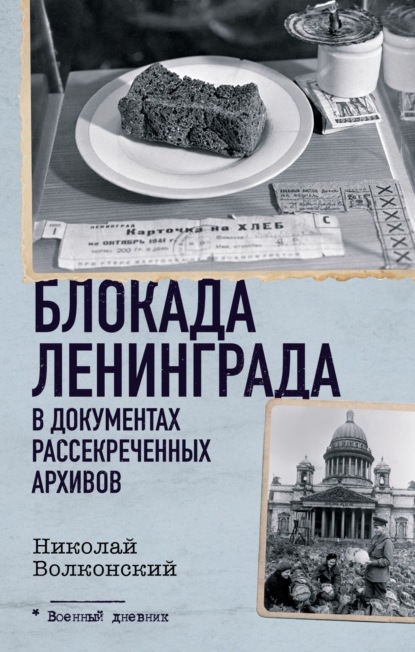Полная версия
Память-черновик

Елена Моисеевна Ржевская
Память-черновик
© Е. М. Ржевская, текст, фото, 2025
© Л. Б. Сумм, предисловие, составление, 2025
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
Фотографии на обложке и в оформлении издания предоставлены из семейного архива Ржевской Елены Моисеевны.
Художественное оформление –Григорий Калугин
Предисловие
Три повести, вошедшие в этот сборник, и обширное интервью, составляющее приложение, в совокупности охватывают важнейшие вехи жизни автора от рождения – и даже чуть в глубину, в судьбы родных – до укрепления в своем призвании. В предисловии остается лишь уточнить основные даты и события, библиографические детали, и сказать немного о свойствах писательской памяти, об удивительном сочетании документального и личного в прозе Ржевской, о даре достоверности.
Елена Каган родилась 27 октября 1919 года в Гомеле, где тогда работал ее отец. Ей еще не исполнилось три года, когда отец получил повышение по работе, и вскоре вся семья оказалась в Москве. От того домосковского бытия кроме отрывочных рассказов родственников уцелел в памяти лишь момент расставания, запечатленный в «Знаках препинания», – грохот над головой: подвыпивший гость плясал на крыше.
«Знаки препинания», первая из повестей этого сборника, ведут нас от первых московских лет в коммунальной квартире на Тверской к дому «за Тверской заставой», на Ленинградском проспекте (тогда – Ленинградское шоссе), где в итоге прошло без малого девяносто лет долгой жизни. Сюда семья переехала, как только дом был построен (Лене идет к семи), отсюда она ушла на фронт, сюда вернулась в октябре 1945 года, отсюда – в последний путь, 25 апреля 2017-го.
Повесть выстроена от ранних детских впечатлений к завершающим юность – к поступлению в ИФЛИ (1937 год), встрече с Павлом Коганом, первой любви, вскоре – войне и гибели Павла. При этом мемуарность, жесткое скрепление существенных для биографии моментов, отбор этих моментов по значимости – отсутствует напрочь. Разве что последние страницы о юности, пронизанные болью любви и утраты, посвящены событию судьбоносному, неотступному «в пределах вечности моей собственной жизни», как говорит о встрече с Павлом сама Ржевская. Все остальное – не «ключевые слова», а именно «знаки препинания»: порой нечто общее для московских жителей ее поколения – Тверской бульвар с беспризорниками, уличными фокусниками, книжными развалами; кинотеатр, «Великий немой»; позвякивание трамвая; запах ванили с кондитерской фабрики; волейбол; порой совершенно частное и притом неожиданное для привычной автобиографической повести: описана школа, в которой училась, но гораздо больше внимания уделено дороге в школу, возникающему на этом пути «чувству горожанина» и даже опозданиям, а не предметам, увлечениям, успехам. Обозначены родители, ярко изображен несносный характер матери, но судьбой, во всей полноте смысла, наделены здесь не они, а будущий отчим Б. Н., его друг Эляфелицианович, двоюродная тетя Эсфирь да отец одноклассницы (и тут уж вопрос, в какой мере этот портрет сложен из пунктирных впечатлений и разговоров, в какой – создан вдохновением автора).
По форме «Знаки препинания» даже не совсем повесть, а скорее цикл рассказов, выстроенных в хронологическом порядке и скрепленных памятью автора: сюжетно эпизоды редко оказываются связаны друг с другом; все персонажи, кроме членов семьи, могут возникнуть и кануть насовсем или вернуться вновь в другом возрасте, в изменившихся отношениях. Но у читателя едва ли возникает вопрос, почему так важно описать соседку по коммунальной квартире, зачем постукивают копытцами в сундуках голубые пони, какое дело нам до Эляфелициановича и к чему понадобилось рассказать всю грустную жизнь слишком веселого человека и трагическую судьбу его красавицы-сестры. Для читателей одного с Ржевской поколения каждая такая подробность была драгоценна в силу узнавания, и именно потому, что автор так много говорит не о себе и всегда – через себя, чтение способствовало восстановлению памяти и даже побуждало писать. В архиве писательницы немало откликов на «Знаки препинания» с кратким рассказом или со своего рода «обменом»: вот вы поведали то-то и то-то – а со мной это было так-то. Несколько подруг Елены прямо говорили, что в «Знаках препинания» обретали опору, сами отваживались взяться за воспоминания. Однако и читателям следующих поколений – теперь уж третьего и четвертого – эта книга совершенно открыта благодаря лирической интонации, точности языка в передаче душевных движений и чувств, и более всего – благодаря особенностям памяти Ржевской: о любом событии, даже самом малозначительном с точки зрения истории или «внешней» биографии, она рассказывает так, что мы видим и переживаем его насущность, полноценное присутствие в памяти, сцепленность со всем, что составляет личность.
В поздних интервью, когда настала пора вглядеться в природу своего таланта, Ржевская говорит почти исключительно о памяти – не о воображении, не об искусстве складывать сюжет (впрочем, к этому никогда не была пристальна), не об аналитических способностях и умении работать с источниками (хотя не только драгоценные для историков «Берлин, май 1945» и «Геббельс: портрет на фоне дневника», но и художественные повести о Ржеве пропитаны документальными материалами), даже не о даре языка (хотя и сказано ею: «Язык же – самодвижущая сила прозы»). И два свойства своей памяти называет неизменно: «память движется толчками» (не слитно, не «сюжетно») и память – «болевое чувство». Или как единое понятие: «болевая память». Интонация Ржевской, ее прекрасный язык, образы, что встают перед глазами, – все рождено из болевой и пульсирующей толчками памяти.
И это память оплакивания и возвращения. «Знаки препинания» – они же камни преткновения. Несколько раз в повести прозвучит мощным колоколом: «Зачем? зачем?» «Зачем, спрашивается, был этот праздник жизни» Эляфелициановича, если его красавицу-сестру постигнет замужество с главой НКВД и похороны в заколоченном гробу? Зачем шагает в первый класс «под моим завороженным присмотром» нарядный мальчик и развеваются ленточки его бескозырки, если «в конце учебного пути» его ждет пуля финского снайпера? Зачем так ревностно читал, стоя под тусклой лампой в коридоре, юноша-сосед – чтобы в этом же коридоре «грохнуть в себя выстрелом»: его отец, одна из ранних жертв, осужден на процессе меньшевиков. Зачем стремилась на спевки деревенская домработница Галя, все мечтала устроить свое женское счастье – и вот нашла, да вскоре и война, мобилизационная повестка ее единственному, детей не нажили – в горе прощания они брели по железнодорожным путям и так, сцепившихся за руки, растерзал их обоих паровоз.
«Я расставляю эти риторические „зачем?“, словно в самом деле у человека от рождения есть большее предназначение, чем сама жизнь, ему данная, и ее проживание. Зачем же я ищу в завязях ее какого-то смысла, надсмысла, что будто бы превыше самой жизни?» – так завершает Ржевская главку о голубых пони, самую, казалось бы, необязательную сюжетно, скорее лирическое отступление, чем страницы биографии.
Но в этих «зачем» и полнота рассказанной до конца судьбы, и взыскующее требование, противостоящее и войне, и государственному террору – заступничество за человека, его право прожить «всю жизнь». «Зачем» вопиет, как «Господи, доколе?». «Зачем» – плач, болевая память.
Как ни странно, в этой повести о детстве и юности, завершающейся хронологически до войны, еще в ее предчувствии – на дне рождения Елены два поклонника спорят о том, кто более востребован в неминуемом и скором будущем, лейтенант или поэт, – дыхание войны ощущается порой сильнее, чем в сугубо «военной» повести «Далекий гул»: «Далекий гул» завершает войну и начинает разговор о том, как вернуться в мирную жизнь, в свою жизнь, и возможно ли это вообще.
Биографически между «Знаками препинания» и «Далеким гулом», второй повестью этого сборника, пять-шесть лет (даже три, если отсчитывать от финала, гибели Павла 23 сентября 1942 года). Но именно эти годы наполняют почти всю прозу Ржевской. Она тосковала, особенно ближе к концу своего творческого пути, что почти не довелось писать о «мире». (А ведь у Толстого, признавалась, читала именно «мир», пропуская «войну». В раннем подростковом возрасте была привержена и вовсе книгам несовременным, романам Чарской и иных сметенных революцией «розовых библиотек». Впрочем, если вглядеться, ее книги о войне гораздо в большей мере – о мире, о любви. Нерасторжимо.)
Если выстраивать повести Ржевской в последовательности ее биографии, сразу вслед за «Знаками препинания» встанет «От дома до фронта» – лето – осень – зима 1941 года, наиболее автобиографичная из военных повестей, где разве что заменены имена преподавателей и соучеников по курсам военных переводчиков, но присутствуют в собственном качестве члены семьи и порой возникает кто-то из соседей – в том числе тех, кто обживает и «Знаки препинания».
Лето 1941-го – работа на заводе и учеба на медицинских курсах в надежде попасть в медсанбат. Подробнее всего Ржевская рассказала об этих курсах в интервью «У войны – лицо войны», а затем включила абзацы о вечерних занятиях за сценой Еврейского театра и о прощании с Михоэлсом в «Домашний очаг» – повесть, завершающую ее творческий путь и вместе с тем – ту часть ее биографии, что она успела написать.
Читатель, таким образом, наткнется в этом сборнике на явный повтор и на немалое количество других, пусть и менее выраженных. Это не столько следствие соединения под одной обложкой вещей, написанных по отдельности и в разное время, сколько характерное свойство воспоминательной прозы, прозы «по мотивам пережитого», как определила сама Ржевская. Пережитое – не просто то, что случилось или чему была свидетелем. Глагол «переживать» сочетает в себе и «жить», и «преодолевать», и – печалиться и сострадать, возвращаться мыслью и чувством. Значительные текстуальные совпадения встречаются в произведениях Ржевской, как бы окликающих друг друга с расстояния в десятки, а то в полсотни лет. Это хорошо видели строгие советские редакторы и тем не менее охотно печатали в нацеленных на безусловную новизну журналах и «Дороги и дни», подхватывающие финал «От дома до фронта» и пересекающиеся с ржевскими повестями, и «Далекий гул», возвращающий нас к рассказанному (но не исчерпанному!) в «Берлине», и «Домашний очаг», где прямо повторено кое-что из «Далекого гула» и буквально воспроизведены некоторые места из программного интервью Татьяне Бек «У войны – лицо войны».
Такие повторы приобщают читателя к свойствам памяти Елены Ржевской – писательницы, чьим ведущим принципом была именно работа с памятью. Мало того, что каждый раз они звучат иначе, с новой уместностью в другом контексте – повторы словно дважды ударяют в сердце: снова, как в первый раз, живым соприкосновением с событием или чувством, а затем именно как повтор, когда это воспринимается уже и читателем как возвращение к пережитому. Ощущается протяженность воспоминания, его наполненность, неотступность, включенность во все пространство долгой жизни автора.
И, как нередко бывает, то, что не оказалось существенным в собственной биографии, как эти медицинские курсы, дорого сцеплениями с судьбой страны или с судьбами подруг: о них, Вике Мальт, Юке Капусто и Руфи Тамариной, в особенности о трагическом пути Руфи Тамариной, Ржевская успевает проговорить в интервью.
Подруги применили полученные медицинские знания, Юка даже сумела, как об этом мечтали все они, попасть на фронт (попала на фронт и Руфь, только, увы, в штрафбат, и тут уж справка с медкурсов оказалась не путевкой на войну, а спасением от бессмысленной гибели). Но в сентябре 1941 года, когда заканчивались занятия, выяснилось, что ждет их в лучшем случае московская поликлиника, а скорее госпиталь в глубоком тылу (всех, кроме Юки, добившейся своего с помощью дяди, главврача армии). И про себя Лена точно знала, что это неправильно – не только потому, что стремилась на фронт, но и потому, что опасалась своей неумелости, и уж лучше по-прежнему обтачивать болванки на заводе, чем неуклюже причинить боль и без того страдающему человеку. И тут – счастливый случай, определивший судьбу. Объявление о наборе на курсы военных переводчиков.
Как происходил этот набор, как, рифмой к рассказанному в «Знаках препинания», чуть было не стало препятствием исключение отца из партии, как вез их в Ставрополь старенький теплоход – все рассказано в интервью, с большей откровенностью, с более сильной, именно за давностью лет, болевой памятью, чем даже в «От дома до фронта».
На курсах оказалось много ифлийцев. В этот замечательный институт Ржевская поступила в 1937 году, весной 1938 года расписалась с Павлом, 6 сентября 1939-го, в первые дни Второй мировой войны родилась дочь Ольга, еще через год студенческий брак, как это нередко бывает, распался. Но не распался дружеский круг, не было приглушено и призвание – писать. Хотя круг состоял из поэтов, Лена, похоже, к стихам не примеривалась даже в романтической юности, а на суд друзьям представила опыт прозы – рассказ о смерти дедушки. Рассказ был одобрен, и Лена, как и вся компания «ифлийских поэтов» (в интервью она поясняет, что входили в это число и студенты других вузов, например, Слуцкий – юридического), начала учиться также и в Литературном институте, в ту пору вечернем, допускавшем такое совмещение.
Совместить материнство и учебу в двух вузах оказалось нелегко, а вскоре и война. В эвакуации в 1941 году ИФЛИ слился с МГУ, литературный факультет – с филологическим. Диплом ИФЛИ Елена получить не успела; с войны вернулась в Литературный институт, получивший к тому времени полную, как теперь сказали бы, государственную аккредитацию, и закончила его. Об этой поре жизни она рассказывает в «Домашнем очаге». А ИФЛИ воскресает в небольшой повести о Сергее Наровчатове «Старинная удача» – самые важные слова из этой повести Ржевская приводит в интервью Татьяне Бек, и таким образом для читателя нынешнего сборника восполняется лакуна между «Знаками препинания» и началом войны.
Там, в Ставрополе, она вновь встретилась с Павлом. Сохранились письма Лены родителям Павла, на попечении которых оставалась ее и Павла двухлетняя дочь. Какие-то виделись надежды на послевойны – дружбы, родственности, участия в воспитании общего ребенка, хотя Лена вполне безвозвратно, в отличие от Павла, понимала, что семьи у них будут уже разные. Но ведь – будут же! Немыслимо представить себе, что Павла может не быть.
Встреча на курсах оказалась последней, разлука – вечной: каждый уходил в свою судьбу. Павел – навстречу сопке Сахарная голова, навстречу своим же строкам «Нам лечь, где лечь, и там не встать, где лечь». Елена – к Ржеву, о котором напишет впоследствии: «Ржев – моя судьба, моя неизжитая боль и мое имя».
Ржеву посвящены три ее повести: «Февраль – кривые дороги», «Ближние подступы», «Ворошеный жар»[1]. Горстка рассказов, некоторые из которых растут из записей во фронтовой тетради, из набросков военной поры (работу над «Зятьками», вернее, над первым абзацем, Ржевская не без самоиронии описывает в «Далеком гуле»). Статьи, интервью. Встречи. В 1990-е годы активное участие в кампании за присвоение Ржеву звания Города воинской славы. Целая жизнь. Цельная жизнь – письменные, устные, внутренней и проговоренной памятью обращения к тому тяжкому году под Ржевом.
Казалось бы, написать три повести – дело не такое уж долгое. Основные мысли о том, как менялась душа войны с 1943 года и что такое Ржев – завязь, из которой вырос в итоге ржевский цикл, – уже присутствуют в дневниковой записи начала 60-х годов, когда пишется повесть «От дома до фронта». «Февраль» будет закончен лишь в 1973 году; вторая повесть помечена 1980 годом, завершающая – 1982–1983-м. Два десятилетия от этой сконцентрированной записи, где есть уже и самая суть того болевого, что надо высказать, и даже прикидываются названия, в том числе и схожие с итоговыми, до осуществления. Что же забрало столько времени?
Конечно, тут сыграла роль и «большая задача». В середине 60-х между «От дома до фронта» и работой над ржевским циклом – «Берлин, май 1945». Точно так же на 90-е годы, после завершения ржевской трилогии, «Знаков препинания» и «Далекого гула», приходится «Геббельс: портрет на фоне дневника»[2], надолго отодвинувший завершение «Домашнего очага» и, к огорчению писательницы, нарушивший ее план обратиться также к 60–70-м годам на основе своих дневниковых записей. Две книги, заметно превышающие по объему повести и по своему характеру документальные, а не художественные, требующие большой работы с источниками. Правда, в обоих случаях это нельзя назвать уходом в сторону от собственной истории и судьбы писательницы, от основных для нее тем. Работа над дневниками Геббельса была предложена Ржевской человеком со схожим фронтовым опытом военного переводчика – Евгенией Кацевой, в ту пору редактором журнала «Знамя», где и предполагалось печатать краткий вариант «На фоне дневника», а потом уж подумать о книге. И предложение это проистекало из подтвержденного книгой «Берлин, май 1945» исторического чутья, умения вникать в документы Третьего рейха, соединять с голосом документов личное свидетельство. Кроме того, Елена Ржевская (а тогда еще военный переводчик, гвардии лейтенант Елена Каган) первой держала в руках страницы этого дневника. Она встречалась с писаниной рейхсминистра пропаганды трижды: непосредственно в бункере Гитлера, в первые дни мая 1945-го, когда, раскрыв чемоданы с бумагами, наскоро убедилась, что рукописный дневник заканчивается почти сразу после нападения на Советский Союз, и, значит, не представляет оперативного интереса в поисках фюрера, живого или мертвого. Во второй раз – в штабе фронта, когда поиски и опознание трупа Гитлера были завершены, завершилась и война, и Елену Каган решили-таки занять переводом этих дневников, за неимением ничего более актуального. Однако вскоре дневники запечатали и отправили в Москву, а Елене осталось лишь в мучительном нетерпении дожидаться демобилизации, а главное – возможности добраться домой. Об этом рассказано в «Далеком гуле».
А еще в «Далеком гуле» наброском, более же внятно в «Домашнем очаге», рассказано о том, что опознание Гитлера было засекречено и участники – их к концу этого захватывающего исторического детектива оставалось всего трое – предупреждены о необходимости помалкивать. Тем не менее майор Быстров (в «Берлин, май 1945» он назван своим именем, в «Далеком гуле» фигурирует под фамилией «Ветров») снабдил Елену копиями ключевых документов, возложив на нее обязанность когда-нибудь написать – ведь не зря же она училась в Литературном институте, не зря же он давал ей творческий день для восстановления профессиональных навыков. Хоть на фронтовых дорогах и не вышло больше абзаца за день (но типично для Ржевской, что именно в таком виде этот зачин и будет опубликован спустя много лет, когда из него развернется весь рассказ), в мирной жизни, конечно же, она справится.
Копии документов были отправлены в Москву контрабандой, вместе с пошитыми в Берлине платьями и халатом, спрятанные в подкладке. И были уничтожены два года спустя после ареста Наума Коржавина, он же «Эмка Мандель»: круги от любого ареста расходились далеко, и Лена, обладательница печатной машинки с мгновенно узнаваемым шрифтом (перебитым на портативной «трофейной» машинке с латиницы на кириллицу, вместо русского «в» оставлен немецкий «эсцет»), опасалась, что, обнаружив среди стихов молодого поэта в том числе перепечатанные ею, придут с обыском и в квартиру на Ленинградском шоссе. Однако миновало.
Только в 1955 году, к десятилетию Победы, когда не явно и вслух, но намеками стало обнаруживаться, что к теме смерти Гитлера можно вернуться (а сколько расплодилось за это время «побегов в Аргентину» и прочих романтических выдумок, не счесть), Ржевская сумела пристроить в журнал «В последние дни: записки военного переводчика» – так скромно и точно хотелось ей назвать этот текст. Хотя она была уже именно Ржевской и даже автором небольшой книги о войне и журнальных публикаций, рассказ о взятии Берлина виделся ей не художественной повестью, а прямым, по личной памяти, свидетельством. В журнале полностью раскрывать то, о чем нигде официально еще не сказано, опасались, и потому «Записки» были опубликованы без последних трех страниц – точка поставлена как раз на словах о самоубийстве фюрера («на правах вымысла», отзывалась об этом решении Ржевская: у кого-то бежал, у нее покончил с собой, никакой достоверности, никакой ответственности за слова). Спустя шесть лет этот же текст с восстановленными заключительными страницами о патологоанатомической экспертизе и опознании был опубликован в сборнике «Весна в шинели» и привлек внимание в ГДР – появился заинтересованный переводчик, который даже привез в Москву кое-какие вырезки из журналов, в том числе западногерманских, с показаниями свидетелей смерти Гитлера.
Но меж тем прошло уже почти двадцать лет, и Ржевская понимала, что теперь личное свидетельство, не подкрепленное документами, вполне может натолкнуться на подозрения. С немалым трудом ей удалось пробиться в архив, увидеть протоколы вскрытия Гитлера и Геббельса, акты опознания зубов, допросы, под которыми стояла и ее подпись переводчика. Оснащенная этими документами, большая часть которых впервые была обнародована, книга «Берлин, май 1945» вышла к двадцатилетию Победы и стала мировой сенсацией – переводилась на множество языков, итальянский журналTempo публиковал свою версию серийно, каждый раз помещая лицо автора на обложке.
Среди множества находок в архиве попалась Ржевской и часть дневников Геббельса. Она использовала их в книге, убедившись в их «саморазоблачительной силе». Помимо прочего, таким образом ученые из Мюнхенского института современной истории узнали о судьбе дневника и спустя недолгое время смогли стать обладателями снятых с дневника копий – отдельная детективная история, подробно излагаемая исследовательницей Эльке Фрёлих в комментарии к четырехтомному научному изданию этих дневников, которое она подготовила и выпустила на исходе 1980-х годов. Елена Ржевская названа в этом предисловии как первооткрывательница и первый (хоть и в небольшом объеме) публикатор этого важного исторического источника и ценного человеческого документа – действительно, трудно более наглядно обнажить растлевающую суть нацизма, его чудовищное воздействие и на уровне общества, и на уровне одной человеческой души, чем это сделал в своем дневнике рейхсминистр пропаганды. В первую очередь жертвой собственной пропаганды стал он сам и его шестеро детей, убитых родителями накануне капитуляции.
Как очевидец, как участник Отечественной войны, как человек, видевший, из чего вырастает и к чему приводит нацизм, как человек, написавший «Берлин, май 1945», Ржевская чувствовала свою ответственность, даже вопреки устремлению к собственному творчеству, к работе «по мотивам пережитого», отдать время и силы тягостному препарированию воспаленной болтологии Геббельса: предостеречь соотечественников, новые поколения об угрозе, которая всегда тлеет в обществе, может притаиться в закоулках человеческой души. Словами об этой опасности она завершает интервью Татьяне Бек.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
* Эти повести, а также «От дома до фронта», переизданы в 2022–2023 годах издательством «Книжники».
2
Эти две книги также вышли вновь в издательстве «Книжники» в 2020–2021 годах.