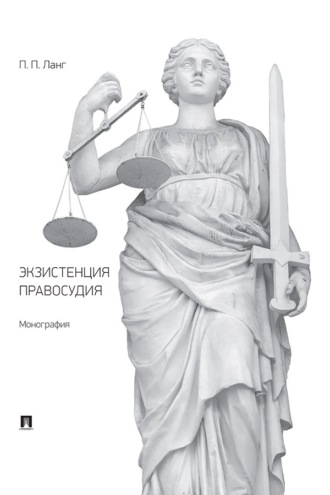
Полная версия
Экзистенция правосудия
Обобщая сведения источников, предлагаем правосудие Греции эпохи архаики реконструировать следующим образом:
Основой процесса являлось соглашение сторон о рассмотрении дела судом. Рассудить стороны приглашались наиболее влиятельные члены общины, старейшины (геронты) либо жрецы.
О принадлежности права на выбор арбитра спорящим сторонам свидетельствует, к примеру, сюжет греческой мифологии, известный как «суд Париса», в котором три олимпийские богини поручили пастуху Парису рассудить разгоревшийся между ними спор.
Разбирательство происходило на агоре либо в святилище, каждую из сторон поддерживали члены семьи и иные изъявившие на то желание лица.
Обязательным условием, без которого разбирательство не могло быть начато, являлся своеобразный залог – вознаграждение судьи. Сами же судьи после открытия разбирательства по очереди предлагали способы разрешения конфликта, сформулированные в виде сакральных формул-клятв. Процесс принесения клятв сторонами спора продолжался до момента, пока одна из сторон не отказывалась поклясться, и эта же сторона признавалась проигравшей. В качестве наказания проигравшая сторона должна была возместить ущерб оппоненту за обиду и принести жертву божеству в качестве жеста искупления[14].
Возвращаясь к сюжету суда Париса, обратим внимание, что поставленный перед ним вопрос о превосходстве одной из тяжущихся сторон (а спор богинь был затеян за звание «прекраснейшей») был разрешен путем состязания богинь, которое заключалось далеко не в приведении доказательств собственной привлекательности, но в принесении обещаний-клятв: богиня Гера пообещала «судье» власть, Афина – воинскую доблесть, а Афродита, дар которой и выбрал Парис, – самую прекрасную женщину.
Вердикт Париса, по сути, являлся предпочтением одного из предложенных богинями даров двум прочим: победительница была определена по результатам проговоренной клятвы. Обещанный дар вместе с тем можно рассмотреть и через призму залога – платы за судейство, осуществляемое у греков на возмездной основе.
Схожие черты с рассмотренным типом правосудия имел и архаичный римский судебный процесс, именуемый legis actio sacramento, или легисакционный процесс в его общей форме. В соответствии с описанием, данным у Гая, этот суд также представлял собой ритуализированную форму пари, в рамках которого правота одной из сторон определялась посредством принесения ими клятвенных формул[15].
Л. Л. Кофанов отмечает, что этимология слова sacramentum («обещание жертвоприношения») связывает существо иска с клятвой, по которой сторона спора обязуется принести жертву богам в случае проигрыша[16].
По правилам легисакционного процесса стороны приносили в суд деньги (либо имущество), именуемые sacramentum. Истец и ответчик оба передавали этот sacramentum, размер которого определен законом, судье-понтифику. Тот, кто побеждал в споре, уходил из суда, получив свой sacramentum назад, a sacramentum побежденного поступал в казну[17].
Элементы борьбы и сделки являлись ключевыми и для древнегерманского процесса.
Процесс отправления правосудия у варварских племен не мог быть инициирован иначе, чем предъявлением обвинения одним лицом другому. Поскольку, как и у других представителей древних европейских цивилизаций, у германцев отсутствовала государственность, их судебный процесс также был частным: лицо, называющее себя жертвой, либо член его семьи должны были указать на предполагаемого правонарушителя. При этом участие третьего, судьи или медиатора, не требовалось, а община вмешивалась в конфликт лишь в исключительных случаях, когда совершенное деяние затрагивало интересы всего сообщества.
Сам процесс представлял собой, таким образом, поединок, частную или индивидуальную войну, а процедура – ритуализацию этой борьбы между индивидами. В германском праве война и правда не были противопоставлены друг другу, напротив, обычай определял правила ведения войны между отдельными лицами и совершения актов мести.
Таким образом, обычай был регламентированным способом ведения войны. Действовать в соответствии с ним – значит наказать убийцу, но сделать таковое по определенным правилам и определенным формам. В связи с этим германцы практиковали квалификацию казни, наказания в зависимости от совершенного деяния: «суровость наказания определялась тяжестью преступления», при этом более легкие проступки наказывались выкупом, передаваемым в равных частях общине (или вождю) и потерпевшему (либо его родственникам)[18].
В свою очередь, судоговорение в таких условиях представляло ритуальную конфронтацию обвиняемого и жертвы. Этот процесс заменял собой или же заканчивал цепочку взаимных актов мести (существующую параллельно судебному способу разрешения конфликта), придавая воздаянию особый статус, не позволяющий требовать последующего возмездия.
Древнегерманские обычаи предполагали возможность прийти к соглашению или сделке в любой момент процесса ритуального возмездия. В соответствии с процедурой, таким образом, один из двух противников выкупал свое право на мир и неприкосновенность, чтобы избежать возможной последующей мести со стороны своего противника. Он выкупал свою собственную жизнь, а не расплачивался за пролитую им ранее кровь, заканчивая войну. Прерывание ритуальной войны – третий и последний акт судебной драмы в древнегерманском праве.
Тем самым германское правосудие можно охарактеризовать как борьбу, испытание, которое в состоянии в любой момент трансформироваться в экономическую трансакцию. Такая процедура не допускала вмешательства в существо противостояния третьего лица, некоего нейтрального элемента, который пытался бы определить, кто из двоих прав.
Однако даже такая процедура должна была обеспечить формальное равенство сторон спора, что привело к появлению третьего участника, призванного следить за соблюдением ритуала, тем самым обеспечивая легитимность исхода противостояния. Эта фигура – не судья в привычном для современности понимании, однако лишь присутствие этой фигуры придавало процедуре легальный статус, ритуальная фигура древнего судьи (неслучайно в его роли обычно выступал жрец) оформляла своим участием процесс, исключая самоуправство.
Таким образом, правосудие древних европейских обществ, вне зависимости от их происхождения, имело схожие черты: в нем не было ни приговора, ни следствия, позволяющих с надлежащей степенью достоверности установить истину, как не было и самой необходимости в этой истине. Испытание само по себе являлось судом, неупорядоченным хаосом объективного мира, который не требовал познания. Такой суд имел характер ритуального состязания, условия которого интуитивно формировались в процессе судоговорения и утверждались авторитетом судьи.
М. Фуко характеризует архаичный тип правосудия как «способ ритуализации и символической транспозиции войны»[19]. Иными словами, первоначальная роль суда заключалась в возможности, обратившись к услугам арбитра, избежать необходимости осуществления мести в отношении обидчика.
Возвращаясь же к эволюции правосудия в эллинской среде, заметим, что, коль скоро философское сознание греков начало превалировать над религиозным (мифологическим), изменился и способ отправления правосудия. Его трансформация практически неразрывно связана с установлением афинской демократии и обусловлена крахом тиранических форм власти, сосредоточивавших Логос в руках узкого круга меньшинства. С этого момента эволюционирующее общество греков (а впоследствии и римлян, перенявших достижения греческой культуры) превратило правосудие в исследование – процесс состязательный, доказательственный, в котором роль арбитра принадлежала не случаю или богам, но вполне определенному судье, а правота стороны определялась не жребием, а совокупностью доказательств.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
1 Строгович М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. М., 1939. С. 19.
2
См.: Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов: сборник / Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж.-П. Сартр. М., 1989. С. 319–344.
3
См. подробнее: Рыбаков О. Ю. Философия как источник и мировоззренческая основа теории прав человека // Юридическое образование и наука. 2022. № 8. С. 15–19; Он же. Философия права: учебник для магистров. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2022. 320 с.
4
См.: Рыбаков О. Ю. Эволюция идеи прав человека в ракурсе философии права // Российская юстиция. 2022. № 12. С. 73–80.
5
См.: Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и назначение истории / пер. с нем. М., 1991. С. 170.
6
См.: Хёйзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. М., 1997. С. 85–94.
7
См.: Ницше Ф. Гомеровское состязание // Философия в трагическую эпоху. М., 1994. С. 93–101.
8
Там же. С. 94.
9
См.: Разуваев Н. В. История римского гражданского процесса как универсальная модель эволюции правопорядков Древнего мира // Теоретическая и прикладная юриспруденция. 2020. № 3. С. 51.
10
См.: Пермяков Ю. Е. Экзистенциальный и юридический смысл правосудия: извлечение европейского опыта // Правоведение. 2013. № 2 (307). С. 181.
11
См.: Хайдеггер М. Ницше. Т. 1. СПб., 2006. С. 169.
12
См.: Tzitzis S. Figures anthropologiques de la justice. Du mythos au logos // Mythe et justice dans la pensée grecque. Québec, 2009. P. 28.
13
См.: Лаптева М. Ю. Право и суд архаической Ионии // Город в Античности и Средневековье: общеевропейский контекст: доклады международной научной конференции, посвященной 1000-летию Ярославля. Ч. 2. Ярославль, 2010. С. 6–9.
14
См.: Логинов А. В. Суд в гомеровском эпосе // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2016. № 2. С. 666–667.
15
См.: Гай. Институции / пер. с лат. Ф. Дыдынского; под ред. В. А. Савельева, Л. Л. Кофанова. М., 1997. 368 с.
16
См.: Кофанов Л. Л. Восприятие сущностных элементов римского права в Испании I в. н. э. на материале Lex Coloniae Genetivae Juliae, LXV и Lex Municipii Malacitani, LXIIII: к проблеме эволюции legis actio sacramento in rem // Античная цивилизация и варвары. М., 2006. С. 292.
17
См.: Там же.
18
Тацит К. О происхождении германцев и местоположении Германии // Сочинения: в 2 т. / пер. А. С. Бобовича. Т. 1. Л., 1969. Анналы. Малые произведения. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tacit.htm (дата обращения: 10.04.2022).
19
Фуко М. Истина и правовые установления // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2 / пер. с фр. И. Окуневой под общ. ред. Б. М. Скуратова. М., 2005. С. 85.



