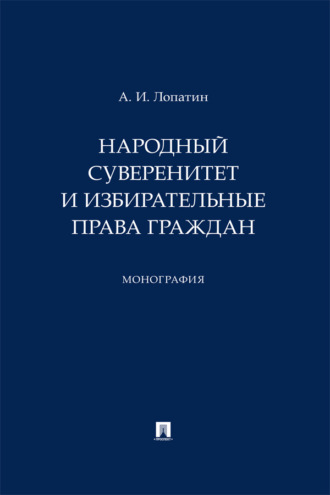
Полная версия
Народный суверенитет и избирательные права граждан
Перечисленные элементы в их системной совокупности и образуют нормативное содержание принципа свободных выборов; они же составляют критерии легитимности иных конституционных форм и способов непосредственного народовластия – референдума и общероссийского голосования, разумеется, с учетом их организационной и функциональной специфики, и формируют нормативное ядро конституционного стандарта организации народного волеизъявления.
Институт общероссийского голосования по юридической природе, значению и правовым последствиям должен быть отнесен к числу высших непосредственных выражений власти народа. Его адекватное доктринальное обоснование (А. А. Клишас, П. В. Крашенников, Т. Я. Хабриева, а также В. В. Еремян, А. Е. Постников) и конституционная легитимация заключением Конституционного Суда России от 16 марта 2020 г. допускают несколько форм юридической институализации: в Федеральном конституционном законе «О референдуме Российской Федерации» и федеральных законах «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «Об общероссийском голосовании граждан Российской Федерации». Юридически допустимо урегулирование порядка организации и проведения общероссийского голосования актом назначившего такое голосование по тому или иному вопросу органа, т. е. регулирование ad hoc.
Частью организационного механизма выявления суверенной воли народа и ее содержательной характеристики является ЦИК России – государственный орган специальной компетенции. Вывод о природе данного органа проистекает из возлагаемых на него законодателем функций – организации и проведения выборов, референдумов, всенародного и общероссийского голосований (функция управления избирательным процессом); нормотворческой функции, пределы которой установлены федеральным законом; квазисудебной функции, заключающейся в защите прав граждан и иных участников избирательного и референдумного процесса.
Новинкой публично-правовой практики последнего времени, вызванной к жизни пандемией COVID-19 и особенно набирающей темпы цифровизацией выборной сферы является так называемое делегированное нормотворчество ЦИК России. В нашем исследовании оно рассматривается как конституционно-правовой институт, как часть юридического процесса и как конституционное правоотношение между законодателем и ЦИК России, которым восполняются пробелы в законодательстве. Законодатель выступает в качестве делеганта, а ЦИК России – делегата. Следовательно, полномочия, пределы усмотрения и критерии легитимности нормотворчества последней определяются делегантом.
Смысл нормотворческой деятельности ЦИК России, обусловленной необходимостью срочных решений, заключается в установлении порядка голосования, обеспечивающего защиту жизни и здоровья участников избирательного процесса либо интеграцию в этот процесс новых технологий, диктуемых цифровизацией сферы электоральной демократии. При этом делегированному нормотворчеству ЦИК России присущи следующие признаки:
– оно возможно только в пределах функций ЦИК России как государственного органа, который организует и проводит выборы;
– законодатель обязан точно определить предмет нормотворчества ЦИК России и пределы его регулирования конкретным актом. При этом критериальное значение для определения объема делегирования имеет указание статьи 71 Конституции, что регулирование прав и свобод граждан входит в предмет исключительного ведения Российской Федерации и осуществляется только федеральным законом;
– акты, издаваемые в порядке делегированного нормотворчества, обладают силой федерального закона, поскольку они санкционированы парламентом;
– эти акты находятся под двойным контролем: федерального законодателя как делеганта и суда;
– федеральный законодатель может в любое время отозвать делегированное ЦИК России полномочие на правотворчество. При этом, по нашему мнению, полноценное законодательное урегулирование порядка деятельности избирательных комиссий в экстраординарных ситуациях, равно как и в процессе цифровизации выборов, является более предпочтительным.
Существует и еще один фундаментальный научный вопрос, носящий нравственный характер. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что современная техногенная цивилизация обусловила проблему выживаемости человечества. Это становится очевидно заметным не только в отношении ухудшения состояния окружающей среды или истощения запасов природных ресурсов. Другая, не менее насущная проблема – это истощение потенциала живого человеческого общения как обратная сторона всеобщей цифровизации, чему, к сожалению, способствует всеобщая склонность к замещению такого общения социальными сетями, гаджетами, виртуальными играми с использованием «цифрового» лица, которое уже в наше время претендует на статус самостоятельного субъекта права. А избирательный процесс – это прежде всего общение живых людей, сложный механизм достижение компромисса по вопросу формирования политического единства общества. Применительно к избирательному процессу представляется, что исключение человека из процесса принятия правоустанавливающих для общества решений только лишь усугубит эту тенденцию. А потому пределы информатизации электоральных процессов видятся не более чем в технической оптимизации этого механизма как способа передачи избираемым представителям народа права на власть, но никак не в отчуждении от этого процесса самого человека, хотя информация уже и приобрела значение одного из главных социальных регуляторов, стала основным капиталом в современном информационном обществе[13].
Исходя из имеющегося нормативного регулирования и наличной практики цифровизации выборов, можно предложить двоякое понимание электронных выборов. В широком смысле слова под электронными выборами понимаются использование электронных средств для подачи и/или подсчета голосов избирателей. Сюда же следует отнести сбор подписей граждан в поддержку кандидатов с использованием электронных средств, проверку этих подписей и т. п. В узком смысле под электронными выборами понимается только подача голосов избирателями с использованием электронных средств, т. е. голосование с использованием электронных средств. При этом императивным требованием к механизму электронных выборов выступает гарантирование конституционных стандартов выборов (всеобщее и равное избирательное право, тайна голосования и обеспечение свободы голосования).
Здесь необходимо отметить, что одна из самых сложных проблем, которую надо было решать технически и закрепить ее законодательно, – обеспечение принципа тайного голосования. В современных условиях, когда вся информация о персональных данных граждан Российской Федерации загружается в прозрачную систему Интернета, соблюдать принцип тайного голосования при дистанционном электронном голосовании крайне сложно. Но с развитием цифровых технологий решением этой проблемы могла бы стать система автоматического шифрования и перемешивания поступающих данных с тем, чтобы было невозможно отследить, с какого именно компьютера или через личный кабинет какого гражданина на портале подан голос[14].
Вышеназванные эти критерии в системе конституционных стандартов свободных выборов занимают доминирующее положение. ЦИК России разработаны и реализуются в выборной практике две основные технологии выборов – «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
«Мобильный избиратель» в конечном счете обусловлен возросшей мобильностью населения. Его смысл заключается в том, чтобы гарантировать активное избирательное право граждан, находящихся в период голосования вне постоянного места жительства. Эта технология, широко опробованная на выборах главы государства в 2018 году, дала возможность воспользоваться своим активным избирательным правом более 6 млн избирателей. Соответственно, она может и должна квалифицироваться и в качестве важной организационной гарантии свободы передвижения и выбора гражданами места жительства, так как снимает конкуренцию и даже коллизию соответствующих конституционных прав.
Что касается дистанционного электронного голосования, то она не альтернатива, а дополнение к традиционному голосованию на избирательных участках: избиратель получает возможность выбора между ДЭГ и традиционным голосованием на избирательном участке с использованием бумажного бюллетеня. Думается, что обе формы голосования одинаково легитимны и в обозримом будущем должны и, судя по всему, будут сосуществовать.
Современные страны заинтересованы во внедрении цифровых новшеств в систему управления, однако они придерживаются разных подходов в подобной цифровизации: для англо-американской модели свойственен стратегический, архитектурный подход; для азиатской – создание высокотехнологичных решений; для континентально-европейской – трансграничность оказания услуг; для российской – интеграция унаследованных систем и низкие темпы преобразований[15]. Серьезной проблемой для использующих технологию электронного голосования государств является обеспечение конституционного принципа тайны голосования и исключение манипуляции голосами избирателей. Автор видит ее решение в использовании технологии блокчейна, позволяющей сочетать прозрачность выборов и конфиденциальность голосования, т. е. его анонимность и тайну голосования, гарантируемых присущей технологии блокчейна транзакционной конфиденциальностью.
Блокчейн – привлекательная альтернатива обычным системам электронного голосования с такими функциями, как децентрализация и защита[16]. Он представляет собой постоянно растущий список блоков в сочетании с криптографическими соединениями. Блокчейн создает серию блоков, реплицированных в одноранговой сети. Любой блок цепочки имеет криптографический хэш и временную метку, добавленные к предыдущему блоку. Все записанные данные делятся на блоки, каждый из которых содержит хэш всех данных из предыдущего блока как часть своих данных[17]. Целью использования такой структуры является достижение доказуемой неизменяемости. Если часть ее содержания изменена, необходимо пересчитать хэш блока[18]. Блокчейн-данные, хранящиеся в блоках, формируются из всех подтвержденных транзакций во время их создания. Это означает, что незаметно вставлять, удалять или изменять транзакции в уже подтвержденном блоке невозможно[19].
Уместно подчеркнуть, что в целях нейтрализации «административного ресурса», особенно в бюджетных учреждениях, и следуя обращениям избирателей, ЦИК России предусмотрела возможность неоднократного переголосования (отложенное голосование) для участников электронных выборов. Полагаем, что найти для этого веское юридическое основание крайне сложно, так как в равной мере сложно доказать, что в данном случае в полной мере обеспечивается равенство граждан-избирателей, голосующих с использованием бумажных бюллетеней или электронно. На практике такая возможность отдельными избирателями использовалась до шести раз, что едва ли можно объяснить декларируемыми целями ее установления. Соответственно, в процессе подготовки к единому дню голосования 11 сентября 2022 г. в субъектах Российской Федерации, в которых применяется технология ДЭГ, возможность отложенного голосования была исключена.
В электоральной повестке стоит вопрос о проведении электронных выборов строго на федеральной платформе. Требует если не немедленного: то скорого решения проблема модернизации института наблюдения, поскольку при применении ДЭГ от наблюдателя требуется хорошее знание технических и юридических аспектов выборов с использованием электронных средств.
Народный суверенитет в России: методология исследования и формы реализации
Слово «суверенитет» в переводе с французского (souveraineté) означает «верховная власть». Обозначаемое этим словом понятие родилось в Западной Европе в Средние века и служило обоснованию абсолютизма монарха, персонифицировавшего и олицетворявшего государство. Данную теорию обычно связывают с именем французского философа и юриста Жана Бодена (1530–1596)[20], который первым (но со ссылками на Аристотеля, Полибия и Дионисия) вывел формулу суверенитета. В это же самое время подобным обоснованием занимался первый русский царь Иван IV Грозный (1530–1584)[21], в исполнении которого синонимом слова «суверенитет», еще неизвестного на Руси, выступала русская «державность».
«В 1789 г. французы совершили величайшее из всех, когда-либо сделанных народами усилий, для того чтобы отрезать себя от своего прошедшего и отделить бездной то, чем они были, от того, чем они желали быть впредь»[22]. Алексис де Токвиль так высоко оценивает Великую французскую революцию конца XVIII века в том числе и потому, что она, свергнувшая абсолютную монархию, связала понятие суверенитета с народом. «Она была лишь завершением более продолжительной работы, стремительным и бурным окончанием дела, над которым трудились десять человеческих поколений»[23]. В течение более двух столетий этот принцип выступает доктринальной основой демократии, а в современном мире он приобрел универсальное значение для демократических государств в том значении, что только воля народа составляет легитимную основу государства и его деятельности, именно воля народа составляет основу власти государства, полномочия которого выводятся из договора государства и народа[24]. «Революция была произведена вовсе не с целью разрушить, как это думали, господство религиозных верований; вопреки внешности, она существенным образом была революцией общественной и политической; и в кругу учреждений этого последнего рода она вовсе не стремилась навсегда ввести беспорядок, сделать его постоянным, обратить анархию в общее правило…: напротив, она заботилась об увеличении могущества и прав государственной власти»[25] (курсив мой. – А. Л.).
Реализация суверенитета народа в конституционном правопорядке – концептуальное содержание
Жан-Жак Руссо, рассуждая об общественном договоре, писал, что народу принадлежат воля и сила. При этом воля народа неотчуждаема и не может передаваться, а делегирована может быть лишь сила, реализуемая органами исполнительной и судебной власти[26]. Рассуждая о воззрениях Руссо, из-за собственных предрассудков понимающий суверенитет как результат общей воли Антуан Фабр д´Оливе говорит: «…это не означает суверенитета в принципе, а скорее указывает на Волю, его создавшую. А если данная Воля объявляется принципом, то кто осмелится сказать, что этот принцип являлся единственным во Вселенной? Если это так, то откуда берутся препятствия, которые останавливают Волю на каждом шагу, отклоняют в сторону и разбивают? И может ли единый принцип заключать в себе противоположности?»[27].
Людвиг фон Мизес ничего практического не находит в высказываниях Фридриха Гегеля о государстве[28] («Государство, как действительность субстанциональной воли, которой {действительностью} оно обладает в возведенном в свою всеобщность особенном самосознании, есть в себе и для себя разумное»): «Государство есть действительность нравственной идеи, нравственный дух как явная, самой себе ясная субстанциальная воля, которая мыслит и знает себя и выполняет то, что она знает и поскольку она знает»[29]. Хотя определения Гегеля имеют именно практическое значение, так как в них обозначены пределы государства, обозначаемые им самим: «Свою направленность во-вне государство обретает потому, что оно есть индивидуальный субъект»[30].
Но все же из этих рассуждений вытекает ряд выводов, в том числе касающихся пределов общей (всеобщей) воли, указанием на то, что народный суверенитет, как и конституционный строй, частью которого он является, причинно обусловлен крушением абсолютизма и возникновением на его обломках демократического государства. «…Государство есть не что иное (да и не должно быть ничем иным), как общественная сила, установленная не для того, чтобы служить гражданам орудием притеснения и взаимного грабежа, а, напротив, для того, чтобы облегчить каждому свое и способствовать царству справедливости и безопасности»[31]. «…Миссия государства – поддерживать порядок и безопасность, заставлять уважать личность и собственность, наказывать за мошенничество и насилие и пресекать такие попытки»[32].
Словом, государство на всех этапах своего развития служит обеспечению мирного порядка сосуществования людей и обладает монополией на принуждение. Но только в демократии в основу такой монополии положена воля народа. Соответственно, народный суверенитет есть историческое явление.
Генетические корни этого явления во французской литературе обстоятельно раскрывали А. Эсмен и М. Ориу. В отечественном государствоведении начала XX века этому посвящены труды Н. И. Палиенко, Ф. Ф. Кокошкина и др. Правда, в силу вполне очевидных обстоятельств Н. Палиенко и другие русские государствоведы этого периода отечественной истории[33] не могли писать о том, что суверенитет народа требует упразднения абсолютной монархии в России либо ее трансформации в конституционную.
Великой французской революцией, выросшей из сформированного ее предтечами общественного сознания, эта задача была выполнена значительно раньше: «С XVIII века политическая сцена морализируется и становится серьезной. Она становится местом одного фундаментального означаемого: народа, народной воли, социальных противоречий и т. д. – и призвана соответствовать идеалу положительной репрезентации. Если предыдущая политическая жизнь, например, королевского двора, представлялась театральным образом, на основе игры и интриги, то отныне она существует как публичное пространство и система репрезентации (разрыв происходит одновременно с разделением на сцену и зрительный зал в театре). Это – конец эстетики, начало этики в политике, которая отныне, в таком фигуративном пространстве, определяется не сценической иллюзией, а исторической объективностью»[34]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики). 15 января 2020 г. М., 2020. С. 34–46.
2
См.: Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 1–30 о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции РФ порядка вступления в силу ст. 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс»: Российское законодательство («Версия Проф»).
3
Хорунжий С. Н. Конституционные ценности демократии или правовая природа юридических процедур в избирательном процессе: промежуточные итоги // Гражданин. Выборы. Власть. 2023. № 3.
4
Колюшин Е. И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений. М.: Норма, 2010.
5
См.: Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для вузов / под ред. Ю. Г. Арзамасова. М.: Юрайт, 2022.
6
Хорунжий С. Н. Правовой баланс как самостоятельная юридическая ценность: механизмы его обеспечения и регулирования: монография. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019.
7
Венецианская комиссия о выборах и избирательных технологиях / Т. Я. Хабриева, А. И. Ковлер, Е. А. Фокин [и др.]; под ред. Т. Я. Хабриевой. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2020.
8
Венецианская комиссия о выборах и избирательных технологиях / Т. Я. Хабриева, А. И. Ковлер, Е. А. Фокин [и др.]; под ред. Т. Я. Хабриевой. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2020.
9
Чиркин В. Е. О базовых ценностях российской конституции (к 20-летию Конституции России) // Государство и право. 2013. № 12. С. 19.
10
Садовникова Г. Д. Народное представительство в современной России: анахронизм или перспективное направление развития демократии? // Государство и право. 2009. № 12. С. 86.
11
Марченко М. Н. Демократия как атрибут правового государства и ее изъяны // Государство и право. 2014. № 5. С. 17.
12
Кутафин О. Е. Российский конституционализм. М.: Норма, 2008. С. 229.
13
Реут Д. А. Информационное общество и право на власть // Гражданин. Выборы. Власть. 2019. № 2.
14
Головина А. А. Электронное голосование и трансформация права в современную цифровую эпоху // Избирательное законодательство и практика. 2019. № 2. С. 20–23.
15
Акаткин Ю.М., Ясиновская Е. Д. Цифровая трансформация государственного управления. Датацентричность и семантическая интероперабельность. М.: ДПК Пресс, 2018.
16
Gao S., Zheng D., Guo R. [et al.]. An Anti-Quantum E-Voting Protocol in Blockchain with Audit Function // IEEE Access. 2019. Vol. 7. P. 115304–115316.
17
Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System // URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
18
Nofer M., Gomber P., Hinz O. [et al.]. Blockchain. Bus. Inf. Syst. Eng. 2017 (CrossRef).
19
См.: Садыков Р. Р. Направления обеспечения безопасности «избирательного блокчейна» // Гражданин. Выборы. Власть. 2022. № 4.
20
Боден Ж. Шесть книг о государстве // Антология мировой правовой мысли. В 5 т. М., 1999. Т. 2: Европа. V–XVII вв. С. 689–695.
21
См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1897. Т. 2. Ч. 2.
22
Токвиль А. де. Старый порядок и Революция / пер. с фр.; под ред. П. Г. Виноградова. 7-е изд. М.; Челябинск: Социум, 2019. С. 15.
23
Токвиль А. де. Указ. соч. С. 44.
24
См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права / пер. с фр. М., 1998.
25
Токвиль А. де. Старый порядок и Революция… С. 43.
26
Руссо Ж.-Ж. Указ. соч. С. 178.
27
Фабр д´Оливе А. Философическая история Человеческого рода или Человека / пер. с фр. В. А. Ткаченко-Гильдебранта. СПб., 2019. С. 346–347.
28
Мизес Л. фон. Всемогущее правительство: тотальное государство и тотальная война. М.; Челябинск: Социум, 2013. С. 61.
29
Гегель Г. В. Ф. Философия права / пер. с нем. Б. Столпнера. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. С. 341.
30
Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 457.
31
Бастиа Ф. Протекционизм и коммунизм. Челябинск, 2011. С. 16.
32
Там же. С. 38.
33
См.: Новгородцев П. И. Лекции по истории философии права. М., 1912; Ковалевский М. М. От прямого народоправства к представительству и от патриархальной монархии к парламентаризму. М., 1906; Гессен В. М. Основы конституционного права. 2-е изд. Пг., 1918; Коршунов Н. М. История философии права. СПб., 1915; Градовский А. Д. Государственное право важнейших европейских держав // Собрание сочинений. В 9 т. СПб., 1902; Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему избирательному праву. М., 1912; и др.
34
Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии. М., 2017. С. 87.



