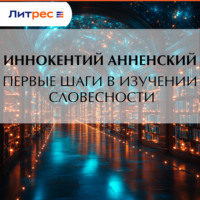Полная версия
Стихотворения

Иннокентий Федорович Анненский
Стихотворения
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Максимилиан Волошин
Анненский – лирик
«Все мы умираем неизвестными»… Слова Бальзака оказались правдой и для Иннокентия Фёдоровича Анненского.
Но «жизнь равняет всех людей, смерть выдвигает выдающихся». Надо надеяться, что так случится и теперь.
И. Ф. Анненский был удивительно мало известен при жизни не только публике, но даже литературным кругам. На это существовали свои причины: литературная деятельность И Ф. была разностороння и разнообразна. Этого достаточно для того, чтобы остаться неизвестным. Слава прижизненная – удел специалистов. Оттого ли, что жизнь стала сложнее и пестрее, оттого ли, что мозг пресыщен яркостью рекламных впечатлений, память читателя может запомнить в наши дни о каждом отдельном человеке только одну черту, одно пятно, один штрих; публика инстинктивно протестует против энциклопедистов, против всякого многообразия в индивидуальности. Она требует одной определённой маски с неподвижными чертами. Тогда и запомнит, и привыкнет, и полюбит.
Быть многогранным, интересоваться разнообразным, проявлять себя во многом – лучшее средство охранить свою неизвестность. Это именно случай Иннокентия Фёдоровича Анненского; и лишь теперь для него начнётся синтетизирующая работа смерти.
И. Ф. был звездой с переменным светом. Её лучи достигали неожиданно, снопами разных цветов, то разгораясь, то совсем погасая, путая наблюдателя, который не отдавал себе отчёта в том, что они идут от одного и того же источника. И надо отдать справедливость, что у Иннокентия Фёдоровича были данные для того, чтобы сбить с толку и окончательно запутать каждого, кто не знал его лично.
Вспоминаю хронологическую непоследовательность моих собственных впечатлений о нём и о его деятельности.
В начале девятисотых годов в беседе о прискорбных статьях Н. К. Михайловского о французских символистах: «Михайловский совсем не знал французской литературы – все сведения, которые он имел, он получал от Анненского». Тогда я подумал о Николае Фёдоровиче Анненском и только гораздо позже понял, что речь шла об Иннокентии Фёдоровиче.
Года два спустя, ещё до возникновения «Весов», Вал. Брюсов показывал мне книгу со статьёй о ритмах Бальмонта. На книге было неизвестное имя – И. Анненский. «Вот уже находятся, значит, молодые критики, которые интересуются теми вопросами стиха, над которыми мы работаем», – говорил Брюсов.
Потом я читал в «Весах» рецензию о книге стихов «Никто» (псевдоним хитроумного Улисса, который избрал себе Иннокентий Фёдорович). К нему относились тоже как к молодому, начинающему поэту; он был сопоставлен с Иваном Рукавишниковым.
В редакции «Перевала» я видел стихи И. Анненского (его считали тогда Иваном Анненским). «Новый декадентский поэт. Кое-что мы выбрали. Остальное пришлось вернуть».
Когда в 1907 году Ф. Сологуб читал свою трагедию «Лаодамия», он упоминал о том, что на эту же тему написана трагедия И. Анненским. Затем мне попался на глаза толстый том Эврипида в переводе с примечаниями и со статьями И. Анненского; помнились какие-то заметки, подписанные членом учёного комитета этого же имени, – то в «Гермесе», то в «Журнале Министерства народного просвещения», доходили смутные слухи о директоре Царскосельской гимназии и об окружном инспекторе Петербургского учебного округа…
Но можно ли было догадаться о том, что этот окружной инспектор и директор гимназии, этот поэт-модернист, этот критик, заинтересованный ритмами Бальмонта, этот знаток французской литературы, к которому Михайловский обращался за сведениями, этот переводчик Эврипида – всё одно и то же лицо?
Для меня здесь было около десятка различных лиц, друг с другом не схожих ни своими интересами, ни возрастом, ни характером деятельности, ни общественным положением. Они слились только в тот мартовский день 1909 года, когда я в первый раз вошёл в кабинет Иннокентия Фёдоровича и увидал гипсовые бюсты Гомера и Эврипида, стену, увешанную густо, по-старинному, фотографиями, литографиями и дагерротипами, шкафы с книгами – филология рядом с поэтами, толстые томы научных изданий рядом с тоненькими «plaquettes»[1] новейших французских авторов, ещё не проникших в большую публику. Наружность Иннокентия Фёдоровича гармонировала с этим кабинетом, заставленным старомодными, уютными, но неудобными креслами, вынуждавшими сидеть прямо. Прямизна его головы и его плечей поражала. Нельзя было угадать, что скрывалось за этой напряжённой прямизной – юношеская бодрость или преодолённая дряхлость. У него не было смиренной спины библиотечного работника; в этой напряжённой и неподвижной приподнятости скорее угадывались торжественность и начальственность. Голова, вставленная между двумя подпиравшими щёки старомодными воротничками, перетянутыми широким чёрным пластроном, не двигалась и не поворачивалась. Нос стоял тоже как-то особенно прямо. Чтобы обернуться, Иннокентий Фёдорович поворачивался всем туловищем. Молодые глаза, висячие усы над пухлыми, слегка выдвинутыми губами, прямые по-английски волосы надо лбом и весь барственный тон речи, под шутливостью и парадоксальностью которой чувствовалась авторитетность, не противоречили этому впечатлению. Внешняя маска была маской директора гимназии, действительного статского советника, члена учёного комитета, но смягчённая природным барством и обходительностью.
Всё, что было юношеского, – было в неутомлённом книгами мозгу; всё, что было старческого, было в юношески стройной фигуре. Хотелось сказать: «Как он моложав и бодр для своих 65 лет!», а ему было на самом деле около пятидесяти.
Его торжественность скрывала детское легкомыслие; за гибкой подвижностью его идей таилась окоченелость души, которая не решалась переступить известные грани познания и страшилась известных понятий; за его литературною скромностью пряталось громадное самолюбие; его скептицизмом прикрывалась открытая доверчивость и тайная склонность к мистике, свойственная умам, мыслящим образами и ассоциациями; то, что он называл своим «цинизмом», было одной из форм нежности его души; его убеждённый модернизм застыл и остановился на определённой точке начала девяностых годов.
Он был филолог, потому что любил произрастания человеческого слова: нового настолько же, как старого. Он наслаждался построением фразы современного поэта, как старым вином классиков; он взвешивал её, пробовал на вкус, прислушивался к перезвону звуков и к интонациям ударений, точно это был тысячелетний текст, тайну которого надо было разгадать. Он любил идею, потому что она говорит о человеке. Но в механизме фразы таились для него ещё более внятные откровения об её авторе. Ничто не могло укрыться в этой области от его изощрённого уха, от его ясно видящей наблюдательности. И в то же время он совсем не умел видеть людей и никогда не понял ни одного автора как человека. В каждом произведении, в каждом созвучии он понимал только самого себя. Поэтому он был идеальным читателем.
Перелистывая немногие и случайные письма, полученные мною за эти несколько месяцев знакомства от Иннокентия Фёдоровича, я нахожу такие фразы, глубоко характерные для его отношения к слову: «Да, Вы будете один… Вам суждена, быть может, по крайней мере на ближайшие годы, роль, мало благодарная». Пишет он мне после первого нашего свидания: «Ведь у вас – школа… у Вас не только светила, но всякое бурое пятно не проснувшихся, ещё сумеречных трав, ночью скосмаченных… знает, что они СЛОВО и что ничем, КРОМЕ СЛОВА, ИМ – светилам – не быть, что отсюда и их красота, и алмазность, и тревога, и уныние.
…Мысль… Мысль?.. Вздор всё это. Мысль не есть плохо понятое слово; в поэзии у мысли страшная ответственность… И согбенные, часто недоумевающие, очарованные, а иногда – и нередко – одураченные словом, мы-то понимаем, какая это святыня, сила и красота…
…А разве многие понимают, что такое СЛОВО у нас? Но знаете, за последнее время и у нас – ух! – как много этих, которые нянчатся со словом и, пожалуй, готовы говорить об его культе. Но они не понимают, что самое СТРАШНОЕ и ВЛАСТНОЕ слово, т. е. самое ЗАГАДОЧНОЕ, может быть, именно слово БУДНИЧНОЕ».
Я не стесняюсь приводить эти слова только потому, что это «ВЫ» – здесь лишь форма выражения, а читать следует «я». Это самого себя Иннокентий Фёдорович под впечатлением нескольких моих стихотворений почувствовал одиноким, себя понял осуждённым на роль мало благодарную в течение ближайших лет, себя знал носителем школы, сам сознавал, что для него внешний мир ничего, КРОМЕ СЛОВА, не представляет, сам трепетал красотой и алмазностью, тревогой и унынием страшных, властных, загадочных – БУДНИЧНЫХ слов.
Каким поэтом мог быть тот сложный и цельный человек, намеренная парадоксальность речей которого была лишь бледным отражением парадоксальных сочетаний, составлявших гармоническую сущность его природы? Это был нерадостный поэт. Поэт БУДНИЧНЫХ слов. В свою лирику он вкладывал не творчество, не волю, не синтез, а жёсткий самоанализ…
Я завожусь на тридцать лет,Чтоб жить, мучительно дробяЛучи от призрачных планетНа «да» и «нет», на «ах» и «бя»,…И был бы, верно, я поэт,Когда бы выдумал себя……И был бы мой свободный духТеперь не «я», он был бы «Бог»…[2]Он не хотел «выдумывать себя» и своё земное «я» противопоставлял сурово и свободно божественной своей сущности, становясь на диаметрально противоположную точку самоутверждения, чем требования: «Твори самого себя в возможном», «Верой уходи в несозданное». Для него слово оставалось сурово БУДНИЧНЫМ, потому что он не хотел сделать его именем, т. е. одухотворить его призывной, заклинающей силой. Его поэзия оставалась бескрылой, как Акропольская Победа, а любовь – «безлюбой». Он сам захотел и этой «бескрылости», и этой «безлюбости», и они дались ему большим трудом, потому что он был рождён и крылатым, и любящим.
Когда перелистываешь страницы «Кипарисового ларца», то убеждаешься, что всё это написано не в моменты бодрого и творческого подъёма воли, которая ушла целиком в другие работы и труды И. Ф. Анненского, а в минуты горестного замедления жизни, в минуты бессонниц, невралгических болей, сердечных припадков, хандры, усталости и упадка сил. Лирика отразила только одну – эту сторону его души.
Разве, охватив взглядом всю разнообразную и богатую деятельность Иннокентия Фёдоровича, можно назвать его человеком бездейственным? Между тем в стихах – это человек, который только смотрит и мучительно-пассивно переживает.
Лишь шарманку старую знобит,И она в закатном мленье маяВсё никак не смелет злых обид,Цепкий вал кружа и нажимая.И никак, цепляясь, не поймётЭтот вал, к чему его работа,Что обида к старости растётНа шипах от муки поворота.Но когда бы понял старый вал,Что такая им с шарманкой участь,Разве петь, кружась, он перестал?Оттого что петь нельзя, не мучась…[3]То, что было юношеского, гибкого, переменчивого и наивного в характере Иннокентия Фёдоровича, не нашло отражения в его стихах. Но разве напряжённой прямизне его стана, за которой чувствовалась и скрываемая боль, и дряхлость, и его негибкой голове, не поворачивавшейся в высоких воротничках, подпиравших щёки, не соответствуют эти мучительные слова о том, что «обида к старости растёт на шипах от муки поворота»?
Там всё, что прожито – желанье и тоска,Там всё, что близится – унылость и забвенье.[4]Для выражения мучительного упадка духа он находил тысячи оттенков. Он всячески изназвал изгибы своей неврастении. «Только не желать бы, да ещё не помнить, да ещё не думать». Сердце – это «счётчик муки, машинка для чудес». «В сердце, как после пожара, ходит удушливый дым».
«О, как я чувствую накопленное бремяОтравленных ночей и грязно-белых дней»……«И было мукою для них (для струн),Что людям музыкой казалось»…Воспоминанья «надо выстрадать и дать им отойти». Ничто не удавалось в стихах Иннокентия Фёдоровича так ярко, так полно, так убедительно законченно, как описание кошмаров и бессонниц. Вот он не спит в вагоне железной дороги —
…Пока с разбитым фонарём,Наполовину притушённым,Среди кошмарных дум и дрёмПроходит полночь по вагонам.…И чем её дозоры глуше,Тем больше чада в чёрных снах,И задыханий, и удуший,Тем больше слов, как бы не слов,Тем отвратительней дыханьеИ запрокинутых головВ подушках красных колыханье…[5]Вот он лежит больной с ледяным мешком на голове. Опять бессонница:
Ночь не тает.Ночь как камень,Плача, тает только лёд,И струит по телу пламеньСвой причудливый полёт.Но лопочут, даром тая,Ледышки на голове!Не запомнить им, считая,Что подушек только две,И что надо лечь в угарный,В голубой туман костра,Если тошен луч фонарныйНа скользоте топора…[6]Вот кошмар дневной. Тоже железнодорожный кошмар импрессиониста:
…В тёмном зное полуднейГул и краски вокзала…Полумёртвые мухиНа разбитом киоске,На пролитой извёсткеСлепы, жадны и глухи…Уничтожиться, канувВ этот омут безликий,Прямо в одурь диванов —В полосатые тики.[7]Вот ещё бессонница, комната, дождь…
Мне тоскливо, мне невмочь,Я шаги слепого слышу:Надо мною он всю ночьОступается о крышу.[8]Вот стук часов не даёт ему спать:
Разве тем и виноват,Что на белый циферблатПышный розан намалёван?[9]Вагон, вокзал железной дороги, болезнь – все мучительные антракты жизни, все вынужденные состояния безволия, неизбежные упадки духа между двумя периодами работы, неврастения городского человека, заваленного делами, который на минуту отрывается от напряжения текущего мига и чувствует горестную пустоту, и бесцельность, и разорванность своей жизни…
Увы! Таковы были те минуты ОТДЫХА, которые он отдавал своей собственной душе, ритму своего «я».
Страшно редки в его лирике слова, выводящие из этого круга обыденности, слова о «тоске осуждённых планет», о том, что он любит всё, «чему в этом мире ни созвучья, ни отклика нет», о том, что существует «не наша связь и лучезарное Слияние», и какие это всё бескрылые, безвольные слова, сравнительно с тою сосредоточенной, будничной силой, которая говорит в его кошмарах. Только один Случевский («После казни в Женеве») находил такие реальные, такие мучительные сравнения, как Анненский.
У него острый взгляд импрессиониста на природу. Но импрессионист не внутри природы – он вне её и смотрит на неё. И. Ф. Анненский смотрит на природу сквозь переплёт окна из комнаты.
Ты опять со мной, подруга-осень,Но сквозь сеть нагих твоих ветвейНикогда бледней не стыла просинь,И снегов не видел я мертвей.Я твоих печальнее отребийИ черней твоих не видел вод.На твоём линяло-ветхом небеЖёлтых туч томителен развод.[10]Но весна ещё больше, чем осень, надрывает его душу. «Эта резанность линий, этот грузный полёт, этот нищенский синий и заплаканный лёд». Не воскресение, а истлевший труп Лазаря видит он в ликах весны.
Уплывала Вербная неделяНа последней, на погиблой льдине.Уплывала в дымах благовоний,В замираньи звонов похоронных,От икон с глубокими глазамиИ от Лазарей, забытых в чёрной яме.[11]Даже в ясные летние вечера, среди тонких эстетических эмоций, колет сердце всё та же тоска:
Бесследно канул день. Желтея, на балконГлядит туманный диск луны, ещё бестенной.И в бесконечности распахнутых окон,Уже незрячие, тоскливо-белы стены.[12]С весной у Иннокентия Фёдоровича были какие-то старые счёты и целый ряд мучительных ассоциаций; главным образом с нею была связана идея смерти.
В лирике, основанной на такого рода душевных состояниях, как лирика И. Ф., представление о смерти не может не занимать громадного места. И она занимает его, и притом в самых скорбных и мучительных и безобразных своих ликах: в лике трупа, панихиды, смертельной тоски, гроба, скелета… Он знает тысячу интимных примет её. У неё «узкий след», она в «кисейной тонкой чадре с мальвовыми полосами», об ней говорит «шелест крови», от неё «в удушливом дыму вянут космы хризантем», «Ужас в бледных зеркалах и молит, и поёт, и с поясным поклоном страх нам свечи раздаёт!». «Ночь напоминает Смерть всем – даже выцветшим покровом». Она «так страстно не разгадана в чадре живой, как дым, она на волнах ладана над куколем твоим».
Она – Смерть – всюду, всегда с ним в эти тусклые, томительные, нестерпимые минуты, которые были для него так несправедливо минутами лирических вдохновений. Иногда с жуткой настойчивостью он начинал кликать Смерть:
Всё ещё он тянет нитку,И никак не кончит пыткуЭтот сумеречный день…Хоть бы ночь скорее, ночь!Самому бы изнемочь,Да забыться примирённым,И уйти бы одурённымВ одуряющую ночь![13]И она пришла совсем такая, какой он видел её, какой страшился, какой ждал, какую, верно, втайне, против воли, хотел; пришла в «жёлтых парах петербургской зимы», «на жёлтом снегу, облипающем плиты», подошла на улице в один из антрактов деловой жизни, неожиданно и сразу сжала сердце одним нажимом пальцев. И он, в шубе, с портфелем, в котором лежала приготовленная лекция, что он ехал в этот день читать, мёртвый, опустился на ступени подъезда Царскосельского вокзала. Полиция отвезла труп неизвестного человека, скончавшегося на улице, в Обуховскую больницу; там его раздели и положили его обнажённое тело, облагороженное мыслью, ритмами и неврастенией, на голые доски в грязной мертвецкой…
…Из церкви Царскосельской гимназии, где совершалось отпевание, белый катафалк с гробом, с венками лавров и хризантем медленно и тяжело двигался по вязкому и мокрому снегу; дорогу развезло; ноябрьская оттепель обнажила суровые загородные дали; день был тихий, строгий, дымчатый; земля кругом была та страшная, «весенняя», с которой у него соединялся образ смерти. И мне, следовавшему за гробом в самом конце процессии, вспоминались, как кощунственная эпитафия, как загробная клоунада, трагически-циничные стихи покойного – «Чёрная весна»:
Под гулы меди гробовойТворился перенос,И жутко задран, восковойГлядел из гроба нос.Дыханья, что ли, он хотел —Туда, в пустую грудь?Последний снег был тёмно-бел,И тяжек рыхлый путь.И только изморозь мутнаНа тление лилась,Да тупо чёрная веснаГлядела в студень глаз —С облезлых крыш, из бурых ям,С позеленелых лип…А там – по мертвенным полямС разбухших крыльев птиц…О люди! Тяжек жизни следПо рытвинам путей,Но ничего печальней нет,Как встреча двух смертей…Из сборника «Тихие песни»
Поэзия
Над высью пламенной СинаяЛюбить туман Её лучей,Молиться Ей, Её не зная,Тем безнадёжно горячей,Но из лазури фимиама,От лилий праздного венца,Бежать… презрев гордыню храмаИ славословие жреца,Чтоб в океане мутных далей,В безумном чаяньи святынь,Искать следов Её сандалийМежду заносами пустынь.«Девиз Таинственный похож…»
Девиз Таинственный похожНа опрокинутое 8:Она – отраднейшая ложьИз всех, что мы в сознанье носим.В кругу эмалевых минутЕё свершаются обеты,А в сумрак звёздами блеснутИль ветром полночи пропеты.Но где светил погасших ликОстановил для нас теченье,Там Бесконечность – только миг,Дробимый молнией мученья.У гроба
В квартире прибрано. Белеют зеркала.Как конь попоною, одет рояль забытый:На консультации вчера здесь Смерть былаИ дверь после себя оставила открытой.Давно с календаря не обрывались дни,Но тикают ещё часы его с комода,А из угла глядит, свидетель агоний,С рожком для синих губ подушка кислорода.В недоумении открыл я мертвеца…Сказать, что это я… весь этот ужас тела…Иль Тайна бытия уж населить успелаПриют покинутый всем чуждого лица?Двойник
Не я, и не он, и не ты,И то же, что я, и не то же:Так были мы где-то похожи,Что наши смешались черты.В сомненьи кипит ещё спор,Но слиты незримой четою,Одной мы живём и мечтою,Мечтою разлуки с тех пор.Горячешный сон волновалОбманом вторых очертаний,Но чем я глядел неустанней,Тем ярче себя ж узнавал.Лишь полога ночи немойПорой отразит колыханьеМоё и другое дыханье,Бой сердца и мой, и не мой…И в мутном круженьи годинВсё чаще вопрос меня мучит:Когда наконец нас разлучат,Каким же я буду один?Который?
Когда на бессонное ложеРассыплются бреда цветы,Какая отвага, о боже,Какие победы мечты!..Откинув докучную маску,Не чувствуя уз бытия,В какую волшебную сказкуВольётся свободное я!Там всё, что на сердце годамиПугливо таил я от всех,Рассыплется ярко звездами,Прорвётся, как дерзостный смех…Там в дымных топазах запястийТак тихо мне Ночь говорит;Нездешней мучительной страстиОгнём она чёрным горит…Но я… безучастен пред неюИ нем, и недвижим лежу………………………На сердце её я, бледнея,За розовой раной слежу,За розовой раной тумана,И пьяный от призраков взорЧитает там дерзость обманаИ сдавшейся мысли позор.……………………О царь Недоступного Света,Отец моего бытия,Открой же хоть сердцу поэта,Которое создал ты я.На пороге
(Тринадцать строк)Дыханье дав моим устам,Она на факел свой дохнула,И целый мир на Здесь и ТамВ тот миг безумья разомкнула,Ушла, – и холодом пахнулоПо древожизненным листам.С тех пор Незримая, годаМои сжигая без следа,Желанье жить всё жарче будит,Но нас никто и никогдаНе примирит и не рассудит,И верю: вновь за мной когдаОна придёт – меня не будет.Листы
На белом небе всё тусклейЗлатится горняя лампада,И в доцветании аллейДрожат зигзаги листопада.Кружатся нежные листыИ не хотят коснуться праха…О, неужели это ты,Всё то же наше чувство страха?Иль над обманом бытияТворца веленье не звучало,И нет конца, и нет началаТебе, тоскующее я?В открытые окна
Бывает час в преддверьи сна,Когда беседа умолкает,Нас тянет сердца глубина,А голос собственный пугает,И в нарастающей тениЧерез отворенные окна,Как жерла, светятся одни,Свиваясь, рыжие волокна.Не Скуки ль там Циклоп залёг,От золотого зноя хмелен,Что, розовея, уголёкВ закрытый глаз его нацелен?Идеал
Тупые звуки вспышек газаНад мёртвой яркостью голов,И скуки чёрная заразаОт покидаемых столов,И там, среди зеленолицых,Тоску привычки затая,Решать на выцветших страницахПостылый ребус бытия.Май
Так нежно небо зацвело,А майский день уж тихо тает,И только тусклое стеклоПожаром запада блистает.К нему прильнув из полутьмы,В минутном млеет позлащеньиТот мир, которым были мы…Иль будем, в вечном превращеньи?И разлучить не можешь глазТы с пыльно-зыбкой позолотой,Но в гамму вечера влиласьОна тоскующею нотойНад миром, что, златим огнём,Сейчас умрет, не понимая,Что счастье искрилось не в нём,А в золотом обмане мая,Что безвозвратно синева,Его златившая, поблёкла…Что только зарево едваКоробит розовые стёкла.Июль
1СОНЕТКогда весь день свои кострыИюль палит над рожью спелой,Не свежий лес с своей капеллой,Нас тешат: демонской игрыЗа тучей, разом потемнелой,Раскатно-гулкие шары,И то оранжевый, то белыйЛишь миг живущие миры;И цвета старого червонцаПары, сгоняющее солнцеС небес омыто-голубых,И для ожившего дыханьяВозможность пить благоуханьяИз чаши ливней золотых.2Палимая огнём недвижного светила,Проклятый свой урок отлязгала кирьгаИ спящих грабаров с землёю сколотила,Как ливень, чёрные, осенние стога.Каких-то диких сил последнее решенье,Луча отвесного неслышный людям зов,И абрис ног худых меж чадного смешеньяВсклокоченных бород и рваных картузов.Не страшно ль иногда становится на свете?Не хочется ль бежать, укрыться поскорей?Подумай: на руках у матерейВсё это были розовые дети.1900Август
1ХРИЗАНТЕМАОблака плывут так низко,Но в тумане всё нежнейПламя пурпурного дискаБез лучей и без теней.Тихо траурные кониПодвигают яркий гнёт,Что-то чуткое в коронеТо померкнет, то блеснёт……Это было поздним летомМеж ракит и на песке,Перед бледно-жёлтым цветомВ увядающем венке,И казалось мне, что нежнойХризантема головойПрипадает безнадежноК яркой крышке гробовой…И что два её свитыеЛепестка на сходнях дрог —Это кольца золотыеЕю брошенных серёг.2ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВЕТ В АЛЛЕЕО, не зови меня, не мучь!Скользя бесцельно, утомлённо,Зачем у ночи вырвал луч,Засыпав блеском ветку клёна?Её пьянит зелёный чад,И дум ей жаль разоблачённых,И слёзы осени дрожатВ её листах раззолочённых, —А свод так сладостно дремуч,Так миротворно слиты звенья…И сна, и мрака, и забвенья…О, не зови меня, не мучь!Сентябрь
Раззолочённые, но чахлые садыС соблазном пурпура на медленных недугах,И солнца поздний пыл в его коротких дугах,Невластный вылиться в душистые плоды.И жёлтый шёлк ковров, и грубые следы,И понятая ложь последнего свиданья,И парков чёрные, бездонные пруды,Давно готовые для спелого страданья…Но сердцу чудится лишь красота утрат,Лишь упоение в заворожённой силе;И тех, которые уж лотоса вкусили,Волнует вкрадчивый осенний аромат.Ноябрь
СонетКак тускло пурпурное пламя,Как мёртвы жёлтые утра!Как сеть ветвей в оконной рамеВсё та ж сегодня, что вчера…Одна утеха, что местамиНалёт белил и серебраМягчит пушистыми чертамиРаботу тонкую пера…В тумане солнце, как в неволе…Скорей бы сани, сумрак, поле,Следить круженье облаков, —Да, упиваясь медным свистом,В безбрежной зыбкости снеговСкользить по линиям волнистым…