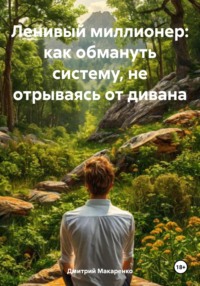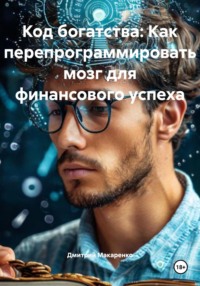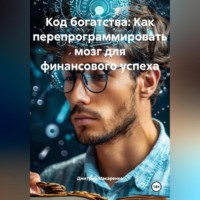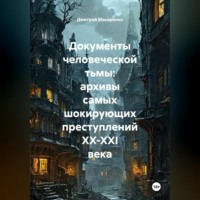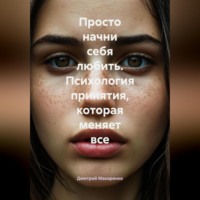Документы человеческой тьмы: архивы самых шокирующих преступлений XX-XXI века
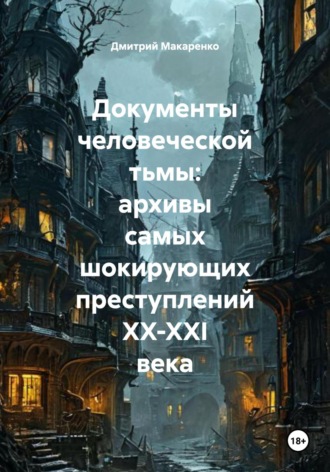
Полная версия
Документы человеческой тьмы: архивы самых шокирующих преступлений XX-XXI века
Язык: Русский
Год издания: 2025
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу