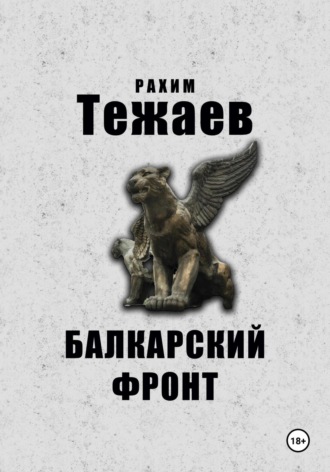
Полная версия
Балкарский фронт
В результате произошло умышленное смешение понятий. Термин, который обозначал принципиальность, решительность и глубину мышления, начали использовать для описания террористов, психически неуравновешенных фанатиков, сектантов и убийц. Это было сделано не случайно: радикал опасен не для общества, а для паразитирующей системы. Он не молчит, он действует. Он не приспосабливается – он разрушает ложь.
Так слово, изначально ассоциировавшееся с борьбой за правду и порядок, было превращено в страшилку, в новую форму оскорбления, чтобы любого несогласного можно было затоптать одним словом – "радикал".
Ваххабитов именовать радикалами – значит искажать смысл самого понятия «радикал». По своей сути и внутреннему коду они представляют собой переходное звено между обезьяной и человеком, неспособное достичь глубины, корня и истины. Именно поэтому приравнивать ваххабитов к радикалам – абсурд и логическая ошибка.
Чуждая идея
Причина антагонизма со стороны части кавказских народов по отношению к балкарцам кроется, прежде всего, в их значительном вкладе в формирование этнокультурного фундамента Кавказа.
Аналогичную, хотя и более завуалированную враждебность можно наблюдать и в отношении чеченцев. Последние воспринимаются как угроза по другой причине – они сильны, сплочённы и внесли не менее весомый вклад в кавказскую культурную и политическую идентичность. Более того, чеченцы объективно являются одним из стержневых этносов региона, вокруг которого строятся ключевые образы кавказского характера – мужественность, сопротивление, гордость.
Однако чеченцы, в отличие от балкарцев, не принадлежат к тюркоязычной группе. Это создаёт для их оппонентов определённый психологический и идеологический барьер: агрессия в их адрес неизбежно сталкивается с силовым и символическим отпором. В случае с балкарцами подобного сдерживающего фактора зачастую нет – напротив, тюркоязычный признак используется как удобный инструмент для делегитимации их присутствия и вклада в кавказскую историю.
Вместо объективной оценки вклада балкарцев – от институтов, культурных кодов, до практической системности поведения и быта – акцент смещается исключительно на их языковую и этническую принадлежность, как будто этого достаточно, чтобы вычеркнуть их из панкавказского пространства.
Подобный подход – стратегия этнической редукции, направленная на обесценивание через упрощение и умышленную изоляцию. В политико-идеологическом смысле её уместно обозначить как тактику скрытой вражды, или, если использовать более точное и эмоционально нагруженное определение – тактику крысиного типа поведения, основанную на закулисных атаках и двуличии вместо открытой конфронтации.
Создавая иллюзию угрозы «пантюркизма», отдельные силы целенаправленно маргинализируют балкарцев, тем самым обесценивая их культурный и исторический вклад в развитие Кавказа. Да, тюркские народы Средней Азии действительно далеки как от Кавказа в целом, так и от балкарцев в частности. Однако именно языковой фактор используется как инструмент, позволяющий представить балкарцев как «чуждых» кавказскому региону.
При этом сами балкарцы не испытывают симпатий к пантюркистской идеологии. Она воспринимается как внешняя, искусственная и потенциально угрожающая. Под прикрытием риторики о «тюркском братстве» подобные движения могут привести лишь к подчинению и дальнейшей ассимиляции малочисленного балкарского народа – что балкарцы прекрасно осознают.
Иное дело – сама идеология пантюркизма. Любой компетентный специалист в области этнополитики понимает: проект «Туран» неосуществим не потому, что ему кто-то извне препятствует, а потому что он внутренне противоречив. Сами тюркские народы не демонстрируют стремления к подлинному объединению. Напротив – между ними сохраняются устойчивые межэтнические напряжения, конкуренция и взаимные амбиции.
Каждая сторона претендует на лидерство, что закономерно порождает сопротивление со стороны других. Это приводит не к единству, а к внутренним конфликтам, в которых один стремится к доминированию, а другой – к самосохранению. В итоге попытки навязать «тюранское братство» становятся фактором дестабилизации.
Идея «Турана» – не более чем утопический миф, в который удобно верить некоторым кругам в Средней Азии. Она служит инструментом самоутверждения и внешней мобилизации, но не имеет ни культурного, ни политического фундамента. Более того, каждый, кто продвигает этот миф, неизменно помещает в центр «Турана» именно свой народ: казах – казахов, кыргыз – кыргызов, узбек – узбеков. Это превращает саму концепцию в абсурдную форму национального эгоцентризма, лишённую всякой практической перспективы.
Вместо того чтобы поощрять культурное и языковое многообразие тюркских народов, сторонники пантюркизма навязывают унифицированную модель, в которой предполагается существование единого языка и стирание этнических различий. Такая модель по своей сути антинациональна – она подменяет идентичности стремлением к искусственному центру.
Процесс формирования «общетюркского языка» строится по тем же принципам, что и вся идеология Турана: доминирование того, кто контролирует политическую или культурную повестку. Язык – не продукт равноправного синтеза, а инструмент подчинения. Кто у руля, тот и определяет «норму».
По существу, Туран – это не проект равноправного союза, а идеологическая попытка одного из тюркских народов присвоить ресурсы, символы и достижения других под предлогом братства. Это не интеграция, а экспансия, завуалированная под лозунги единства.
Очевидно, что балкарский народ исторически не приемлет никакой формы подчинения или ассимиляции, в том числе под лозунгами мифологизированного «турана». Несмотря на малочисленность, балкарцы на протяжении веков последовательно стремились к сохранению своей идентичности и отделённости от других этнических систем. Эта многовековая борьба за культурное и этногенетическое самоопределение закрепилась не только в общественном сознании, но и, по существу, в биологической памяти народа. Поэтому попытки навязать балкарцам чуждую идеологию представляют собой не просто внешнее давление – они противоречат самой структуре их исторического бытия.
Однако это не мешает отдельным этническим и политическим группам целенаправленно пропагандировать мифическую угрозу «Турана» и использовать её как предлог для маргинализации балкарцев.
Подобная стратегия активно применяется против балкарского народа и, по сути, является едва ли не единственным инструментом давления. Для подавления патриотических чувств и национального достоинства используется методологически простая, но эффективная схема: акцент на тюркской языковой принадлежности.
Манипулируя этим фактором, противники стремятся внедрить идею о «чуждости» балкарцев на Кавказе, ставя под сомнение их историческую укоренённость и право на культурную и территориальную идентичность. Подменяя понятие языка понятием происхождения, они пытаются лишить балкарцев права на гордость за свою землю и чувство органической связи с ней.
Фактически, это попытка создать у народа комплекс "внешнего" – даже там, где его история говорит об обратном.
Черкесская пропаганда
Одним из наиболее активно используемых инструментов черкесской пропаганды являются так называемые «исторические карты Черкесии» – визуальные конструкции, не имеющие под собой ни архивного, ни этнографического, ни хронологического основания. Эти карты охватывают обширные территории – от побережья Чёрного моря до границ современного Чеченского региона – и призваны создать иллюзию монолитной и географически цельной «черкесской цивилизации».
Фактическая реальность резко отличается от подобной мифологии. Исторически адыгские народы представляли собой не единую этнополитическую структуру, а совокупность разрозненных племенных образований, среди которых было 12 самостоятельных групп. Одной из них были кабардинцы, которые в современной российской классификации и обозначаются термином «черкесы». Однако между кабардинцами и западными черкесами (адыгами, населявшими прибрежную часть Северо-Западного Кавказа) на протяжении столетий существовали устойчивые противоречия, вплоть до вооружённых столкновений. Подтверждено, что кабардинцы в ряде исторических эпизодов воевали против западных адыгских племён – этот факт общеизвестен среди исследователей кавказской истории.
Современное отождествление кабардинцев с коллективным образом «черкесов» сопровождается отказом от собственного этнонима, что может интерпретироваться как стремление выйти из-под статуса этнополитического "аппендикса" и занять более активную символическую позицию. Внутри этнополитической риторики это подаётся как "наследие сопротивления", однако в исторической перспективе кабардинская линия была скорее линией компромисса и подданства, особенно начиная с XV века, когда произошло их добровольное вхождение в российскую орбиту.
Территории, на которые претендуют идеологи "Великой Черкесии", зачастую включают земли, на которых адыгские племена не проживали ни в историческом, ни в демографическом смысле. Такие карты игнорируют не только внутренние конфликты между адыгскими племенами, но и исторические процессы миграции, подданства и ассимиляции. В частности, кабардинцы переселились на свои нынешние территории после XV века, и на этих землях не имели непрерывного цивилизационного присутствия.
Несмотря на исторические факты, кабардинцы (южные черкесы) продолжают продвигать искусственно сконструированные карты так называемой «Великой Черкесии» – фантомного образования, якобы объединявшего под началом «адыгского государства» территории от побережья Чёрного моря до предгорий современной Чечни. Это утверждение не выдерживает критики ни с этнографической, ни с историко-политической точки зрения.
Во-первых, никакого единого «адыгского» народа в строгом этнокультурном смысле никогда не существовало. Западные черкесы и южные (кабардинцы) враждовали на протяжении столетий и нередко выступали друг против друга. Во-вторых, сами кабардинцы в XV веке добровольно вошли в подданство Русского царства, что поставило их в союзническое положение по отношению к Московии, и, соответственно, в конфронтацию со многими горскими народами Кавказа.
Краткий исторический эпизод, когда под предводительством Темрюка Идаровича (выдавшего свою дочь в жёны Ивану Грозному), кабардинцы в союзе с Россией начали захватнические рейды на соседние земли, не даёт им морального права заявлять о территориальном наследии. В тот период действительно происходили военные кампании на земли ингушей, частично чеченцев, а также осетин. Однако следует подчеркнуть: с осетинами отношения были преимущественно лояльными, если не братскими. А вот с ингушами, наоборот, велась ожесточённая борьба, дошедшая до этнической резни. Эти события оставили глубокий след в ингушском фольклоре, в частности – в эпосе «Махкинан», где описано сопротивление народа натиску кабардинцев.
Факт, что кабардинцы на короткий период контролировали некоторые равнинные земли, не даёт им основания претендовать на эти территории сегодня. Их нынешние попытки легитимизировать исторический грабёж через нарисованные от руки карты – это не что иное, как сознательная фальсификация истории, направленная на дестабилизацию этнополитического баланса и навязывание ложного нарратива.
Парадоксально, но авторы этих карт даже не утруждают себя скрывать фальшь – напротив, они используют её как инструмент националистической пропаганды, призванной прикрыть историческую роль коллаборационистов и захватчиков.
Глава 2. Балкарцы и народы Кавказа: структура межэтнических отношений
Для тех, кто далёк от национальной тематики или пребывает в паразитическом состоянии «нейтралитета», эта глава останется непостижимой. Люди из таких категорий зачастую не осознают, что межнациональные отношения – это в девяносто девяти процентах случаев именно вопрос взаимной выгоды. Можно сколько угодно декларировать братство и идеалы выше личной или групповой выгоды, но на деле любой, кто так говорит, совершает акт взаимовыгоды – просто не национальной, а чисто личностной. Он уверен, что вышел за рамки прагматизма, но на самом деле лишь иллюзорно раскрепощён и продолжает действовать в рамках собственных эгоистичных интересов.
На межэтнической карте Кавказа балкарская нация соотносится с различными этносами в диапазоне от союзнических связей до скрытого противостояния. Эти отношения могут быть классифицированы как открыто дружественные, враждебные, нейтральные и латентно-конфликтные.
Чеченцы
Отношения между чеченским и балкарским народами имеют под собой прочный исторический и культурный фундамент.
На Кавказе трудно найти народы, столь сходные по духовным ориентирам и культурной модели, как чеченцы и балкарцы. Одним из характерных этнографических параллелизмов является устойчивая традиция раздельного присутствия супругов на свадебных мероприятиях – в отличие от практики у черкесов, дагестанских народов и ряда других кавказских этносов. Подобные элементы не являются случайными – они отражают глубинную структуру социального восприятия чести, стыда и внутрисемейной иерархии.
Помимо прочего, между чеченцами и балкарцами прослеживаются устойчивые параллели в области традиционного этического кодекса. У чеченцев он известен как «Оьздел», у балкарцев – «Ёзден», причём оба термина не только созвучны, но и концептуально идентичны. Речь идёт о системе поведенческих и нравственных норм, формирующих этническую самость, определяющих структуру авторитета, понятие чести и допустимые рамки взаимодействия внутри социума. Такое совпадение в терминологии и содержании не может быть случайным. Оно указывает на исторически обусловленные взаимосвязи между балкарским и чеченским этносами – связи, уходящие корнями в периоды доисламской цивилизационной матрицы Кавказа. Вероятнее всего, речь идёт не о простом заимствовании, а о долговременном культурном симбиозе, в рамках которого происходило взаимное обогащение базовых категорий общественной этики.
Сходство этих кодексов предполагает существование не только культурной преемственности, но и общей ментальной архитектуры, выстроенной вокруг таких понятий, как долг, честность, достоинство, защита слабого и приоритет рода над индивидом. Эти категории выступают неотъемлемой частью этнического инстинкта выживания в условиях полиэтничного и конфликтного пространства.
Следовательно, балкаро-чеченские этические пересечения могут быть интерпретированы как следствие длительного исторического сближения, имевшего, возможно, и демографические, и военно-политические основания. Совокупность этих факторов не только укрепила взаимное восприятие как «близких» народов, но и заложила основы для создания устойчивых межэтнических норм, выходящих за рамки формального соседства.
Интересным элементом этнокультурной близости между балкарским и чеченским народами является наличие тождественных и семантически схожих образов в символической системе. Примером может служить слово «бёрю», означающее «волк» в балкарском языке. У чеченцев аналогичная фигура тотема представлена термином «борз» – также обозначающим волка, но несущим при этом более глубокую сакральную нагрузку. В чеченской традиции волк – символ силы, независимости, верности роду и способности к автономному сопротивлению. Это не просто животное, но культурный архетип, воплощающий воинскую и родовую этику.
Созвучие «бёрю» и «борз» при всей фонетической разнице указывает на историческую общность смысловых и символических структур. Подобная лексическая близость – не случайный параллелизм, а результат долговременных контактов, в рамках которых происходила циркуляция ключевых культурных образов и их адаптация в локальных нарративах. Эти контакты могли основываться как на межплеменных союзах, так и на общих военно-культурных вызовах, предъявляемых высокогорной средой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



