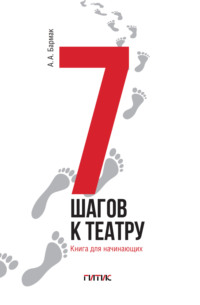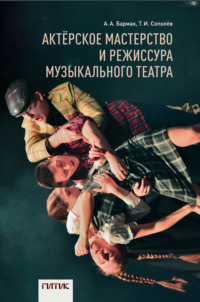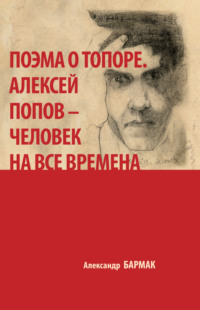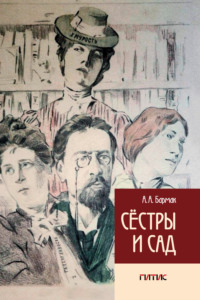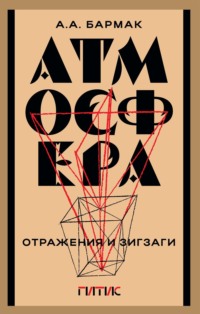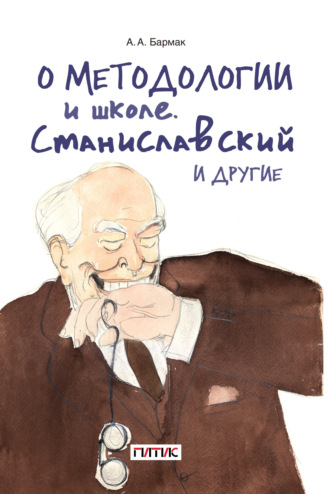
Полная версия
О методологии и школе. Станиславский и другие
Именно методология сделала режиссуру тем, чем она является сейчас. Она дала ей особую специфику, предопределила некоторые весьма важные и очень оригинальные качества этой редкой профессии, без которых режиссер не может быть профессионалом и, говоря прямо, просто не имеет права называться режиссером. В каких‐то своих изначальных основах методология актерского мастерства и методология режиссуры очень близки, схожи, а иногда, как это ни покажется странным, тождественны. И это тождество абсолютно не противоречит самостоятельности, исключительной своеобразности режиссерской профессии. Напротив того – оно только усиливает уникальность и редкость режиссерской профессии.
Невозможно быть настоящим режиссером, не владея методологией актерского искусства и не зная ее основных законов. Все великие и выдающиеся русские режиссеры XX в. вышли из актеров, как правило, учеников Станиславского и Немировича-Данченко, то есть получили сильнейшую прививку методологии театрального дела, правда, каждый на своем этапе жизни и творчества.
Великий режиссер и театральный педагог Станиславский в известном смысле слова сам вышел из актеров. Его гениальная натура совмещала чрезвычайно редкое сочетание таланта художника и дар блестящего ученого аналитика. Такое сочетание, казалось бы, несовместимых вещей случается крайне редко – на ум приходит Леонардо да Винчи, – но в личности Станиславского оно нашло одно из своих самых совершенных исполнений.
Практически все ученики Станиславского, освоившие театральную науку, остались верными его заветам и в той или иной степени внесли лепту в развитие методологии, основанной Станиславским и Немировичем-Данченко. Они вышли из актеров, начинали как учащиеся театральных школ и студий. Как правило, эти школы и студии так или иначе были связаны с Художественным театром и его великими основателями.
Вл. И. Немирович-Данченко сам никогда не был актером, хотя, по воспоминаниям современников, обладал значительным актерским даром, но его деятельность дает нам то превосходное исключение, которое безусловно подтверждает правило. Он не был актером, но обладал редкой способностью как бы отражать в себе актера, блистательный театральный педагог, он является одним из создателей современной методологии актерского и режиссерского мастерства. Именно Немировичу-Данченко принадлежит фундаментальная для современного театрального искусства формула режиссуры: режиссер-педагог, режиссер-толкователь, режиссер-организатор. К ней мы еще вернемся, так же, как и к другой великой мысли Немировича-Данченко о «трех волнах театрального искусства».
В конце XIX в. в театре в силу ряда причин, о чем мы скажем особо, выросло и стремительно завоевало силу новое искусство – режиссура. С тех пор недостаточно говорить о театральном искусстве только как об искусстве актера. Роль режиссера в современном театре исключительно велика. Это стало ясным и вызывало известную тревогу у некоторых театральных деятелей в ту эпоху, в конце XIX в., когда начинали свою, во многом изменившую мировой театр режиссерскую деятельность Гордон Крэг, Андре Антуан, Макс Рейнхардт и другие выдающиеся режиссеры, первые режиссеры – художники, заставившие вскоре говорить о режиссуре как об особой профессии в театре; очень быстро они заслужили и от критики, и от публики прозвание диктаторов в театре. Были они на самом деле диктаторами или нет, нам сейчас не суть важно. Важно другое – они были первыми, кто заставил признать в режиссуре самостоятельное художественное творчество.
Окончательно режиссура стала не только самостоятельной профессией в театре, но и искусством, обладающим своими, только ему присущими выразительными средствами, благодаря Станиславскому и Немировичу-Данченко.
На протяжении всей истории Художественный театр был, прибегнем к распространенному выражению, настоящей кузницей режиссерских кадров. В разные времена он вырастил многих известных режиссеров, сделавшихся классиками искусства режиссуры, создавших знаменитую режиссерскую школу русского и в большой степени – европейского театра. Школу, имеющую огромное значение до сих пор. Так что, говоря о театре как об искусстве, нужно непременно включать в него вместе с искусством актера и режиссуру.
Вместе с тем исключительно важно понимать, что режиссура именно методологически вся вышла из актерского искусства.
Своими корнями она уходит в искусство актера. Это совсем не отменяет связи режиссуры с драматургией, она подразумевается сама собой, по крайней мере до сих пор подразумевалась, все‐таки основное дело режиссера – это перенесение пьесы на сцену, переложение литературы в сценическое действие живого человека на сцене, создание, таким образом, на сцене жизни человеческого духа. Это нисколько не умаляет также и связей режиссуры с изобразительными искусствами, музыкой, пластическими искусствами и т. д., наоборот, только придает этим связям особую ценность, ибо именно режиссер преображает все смежные театру искусства, осуществляя их синтез в процессе постановки спектакля.
Вопрос для сегодняшнего дня особенно острый заключается только в том, где находится, как говорил А. Д. Попов, «точка общего схода» всей этой многогранной деятельности режиссера. На этот вопрос может быть дан единственный ответ: точка общего схода всех многообразных выразительных средств, всех возможных искусств, приемлемых или даже неприемлемых, но применяемых режиссером при постановке спектакля, находится в живом человеке на сцене.
Это – фундаментальное положение всей методологии.
Поставить театральный спектакль, то есть выразить в сценическом действии, воплотить в сценической форме, неожиданной, необычной, часто даже поражающей своей смелостью, драматургию автора, сделать это через живого человека-актера на сцене может только режиссер и никто другой, для этого у него есть вся необходимая сумма знаний и навыков, данная и обеспеченная методологией.
Мы живем во времена, когда с чьей‐то легкой руки спектаклем стали называть вообще любое представление, независимо, кстати, от того, участвуют ли в нем актеры или нет, часто вместо актеров в таких представлениях заняты сами зрители, а бывает и так, что устроители вообще обходятся без человеческого участия – людей вполне могут заменять роботы или самодвижущиеся фигуры – да что угодно!
Некоторые по‐настоящему в своем роде талантливые люди, создают, бывает, действительно оригинальные, интересные представления, зрелища, в том числе сценические, их называют еще хеппенингами, перформансами, инсталляциями. Для работников, которые всем этим занимаются с большим или меньшим успехом, даже придумали новое труднопроизносимое и непонятное словечко – перфекционисты. Они занимаются разного рода арт-акциями, которых не счесть. В их числе арт-акции и сценические акции. Спектаклями в прямом смысле такие сценические опусы все же назвать трудно. Но, несмотря на новые термины, авторов этих сценических опусов до сих пор, скорее, по привычке, называют режиссерами.
Это неверно, и было бы не так страшно, если бы такая привычка не стала дорого обходиться театру, распространяя внешнее понимание режиссуры на весь театральный процесс, который, говоря откровенно, бывает в достаточной мере скучен и от которого зритель, взбудораженный арт-акциями, стал требовать чего-нибудь в том же духе. Этих талантливых организаторов пространства, организаторов представлений удобнее для всех было бы называть сценическими дизайнерами. Да, такая новая профессия стала реальностью. И надо сказать, она какими‐то своими путями связана с режиссурой, прежде всего во всем, что касается организации пространства и его наполнения разного рода объектами, почти всегда создающими некий ритм, но далеко не всегда смысл или, надо сказать, отсутствие смысла и составляет весь «смысл» таких представлений. Тут огромный простор для всякого рода софизмов.
Сценический дизайн, остановимся на этом названии, почти во всем весь вышел из режиссуры. Но каким образом это произошло? Да просто одна из сторон деятельности режиссера, его собственно постановочная работа, связанная с организацией и переосмыслением привычного сценического пространства, была гиперболизирована и подменила собой вообще все понятие режиссуры. Такое понимание режиссуры очень опасно; эта замена стала дорого обходиться театру как таковому; такое упрощенное, укороченное понимание режиссуры стали переносить и на театр.
Это противоречит методологии, и дело не в том, что не соответствует ее букве, а в том, что выхолащивает ее смысл, уничтожает суть искусства театра – жизнь человеческого духа на сцене. Но разве возможно сделать, создать жизнь человеческого духа без живого человека на сцене? Но что такое живой человек на сцене? И разве во всяческих выше перечисленных и неперечисленных, не учтенных нами арт-акциях не участвуют актеры? Все‐таки не всегда только из многоугольников состоят участники и персонажи таких представлений, есть ведь и живые люди?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо научиться не путать на сцене человека живого с человеком движущимся.
Живой человек раскрывает перед нами свой внутренний мир, проживая на наших глазах свою судьбу; человек движущийся ничего не проживает, никакого внутреннего мира раскрыть не может по причине его полнейшего отсутствия, но он очень многое хочет обозначить. Однако для того, чтобы что‐то обозначить на сцене, вовсе и не надо быть актером. Никакое обозначение, даже самое остроумное, никогда не способно раскрыть суть, полностью передать смысл, сущность события. Обозначить что‐то в искусстве – это, простите за невольную тавтологию, значит не понять, не увидеть, не уловить сути. Знак и художественный образ – совершенно разные вещи, особенно на сцене. Актер создает сценический образ, только раскрывая внутреннюю жизнь действующего лица, живого человека. Другое дело, каким путем прийти к наиболее полному раскрытию этой жизни – тут и приходит на помощь методология.
Знак – временная вещь, его легко поменять, заменить другим. Да и не всякий знак к тому же соответствует времени и месту: знак «Гололёд» на дороге летом ничего не значит, только мешает. Да и не всегда знак означает то, что на нем изображено – знак «Ремонтные работы» на шоссе, где нет работ, очень часто означает только ловушку для водителей. Вся, так сказать, сила знака как раз заключается в том, что он должен быть предельно и быстро понятным. Вместе с тем, как вы понимаете, знак далеко не бессмыслен, и манипуляция знаками может быть не только опасной, как в случае дорожного движения, но и довольно интересной, а при применении особых технических средств и увлекательной.
Но не надо все это называть театром, а тех, по приказу или прихоти которых осуществляется эта манипуляция – режиссерами. Правда, сейчас некоторые «теоретики», должно быть, в глубине души понимая, что это все‐таки не совсем театр, придумали новый термин для обозначения того, что мы условно называем сценическим дизайном, – метатеатр. Но тогда по логике вещей и актер в таком метатеатре является метаактером, то есть… метачеловеком. Ну а что такое метачеловек – это привидение, хорошо еще, если кентервильское из повести Оскара Уайльда. Жизнь всегда непонятна, но в театре должна быть понята. А для этого – прожита на наших глазах. И если актеру – живому в полном смысле человеку на сцене бывает ровным счетом ничего не нужно, кроме, может быть, отключения мобильных телефонов и тишины в зрительном зале, то актеру движущемуся нужно многое, чтобы хоть как‐то оправдать пребывание на площадке и свое часто совершенно непонятное ему место в ходе представления.
Режиссер обладает своими только его профессии присущими инструментами, с помощью которых он способен поставить спектакль, то есть создать подлинную жизнь на сцене. Что это за инструменты, мы скажем позже. Пока важно понять, что режиссура – это профессия, и никакой другой профессионал – ни драматург, ни даже актер, ни театральный критик, ни музыкант, ни хореограф не имеют возможности поставить настоящий театральный спектакль, если они не владеют специфическими режиссерскими инструментами.
Из сказанного выше становится понятным, что в связи с вопросом театральной методологии необходимо рассмотреть еще и режиссуру, очень тесно связанную с актерским искусством и находящуюся с ним в близких родственных отношениях.
Поэтому театральное искусство в целом рассматривается нами как своеобразный сплав искусства актера и искусства режиссера.
Может быть, это и сужает обычные, довольно широкие рамки, в которых принято смотреть на театр, впрочем, не всегда в какие‐либо рамки вмещающийся, хотя бы потому, что это прежде всего искусство живого действующего и действующего именно в данный момент человека, который и сам по себе, как известно из слов классика, широк. Добавим еще: строптив и всяческому сужению и ограничению поддается с трудом; охотно допускаем упрек в том, что нарочно несколько сужаем, так сказать, эстетические параметры театра, но делаем это, только исходя из соображений целесообразности, во‐первых, а также удобства изложения нашей проблемы, во‐вторых.
Для нас важно, что методология театрального искусства является общей платформой для актерского мастерства и режиссуры. Поэтому мы несколько произвольно оставляем в стороне синтетическую природу театра, выделяя из нее то, без чего, собственно, о театре говорить не приходится – мастерство актера и режиссуру.
Современная режиссура именно методологически вся вышла из искусства актерского.
Режиссер, не знающий законов природы актерской профессии и не умеющий их применить в работе с актером, требующий от актера строгого выполнения поставленных перед ним задач, но неспособный подвести актера к этим задачам через естественную правдивую и верную жизнь на сцене, переводит даже самые свои интересные задумки и решения из сферы искусства, сферы эмоционально-художественной в плоскость рациональных и не всегда, к сожалению, остроумных суждений. Можно сказать, в плоскость плаката, который, может быть, и остановит на себе внимание публики в момент своего появления оригинальным дизайном, но через несколько дней, промоченный дождями и высушенный солнцем, никого уже интересовать не будет. Даже если он содержит весьма актуальную информацию.
Также и спектакль: решение режиссера, как бы оно само по себе не было оригинальным, не пропущенное через живого человека на сцене, может быть, и способно удивить, но поразить, взволновать, потрясти не может. Хотя, собственно, чем сегодня можно удивить на сцене? Кажется, что перепробованы практически все из ранее уже существовавших решений сценического пространства, приемов сценического существования актеров. Редкая пьеса, во всяком случае из тех, которые признаны классикой, не подвергалась в былые времена совершенно невероятным переосмыслениям, даже переделкам, в этом смысле практически израсходован весь театральный запас.
Но что же это за театр, в котором все эмоции зрителя связаны прежде всего со сценическим решением (оно, как это часто бывает, принадлежит театральному художнику, как сейчас его называют – сценографу, иногда спасающему режиссера в драматическом театре и почти всегда выручающему режиссера в оперном), а не рождаются в результате потрясения от правдивой жизни человека, развертывающейся на глазах зрителя в искусстве актера.
Той правдивой сценической жизни, к которой режиссер обязан знать, как подвести актера.
Сегодня – это один из самых важных вопросов театрального искусства.
Открытие Станиславским законов актерского творчества стало для режиссеров важнейшей основой их профессии. Конечно, не следует забывать, что сама по себе режиссура имеет отдельную от актерской специфику, свои понятия, уникальные методы работы над литературным материалом и спектаклем, без которых нельзя говорить о самостоятельности режиссерской профессии, но важно понимание того, что они тесно связаны, переплетены с понятиями актерской методологии, а иногда просто вытекают из нее. Поэтому мы и имеем право сказать, что как актерское мастерство, так и режиссура имеют общие методологические корни, общую методологическую платформу.
Основные методологические понятия и категории театрального искусства, рассматриваемого в данном случае как совокупность актерского мастерства и режиссуры, одинаково важны для обеих театральных профессий, составляют их основу, дают инструменты для их творчества; но надо учитывать, что эти методологические понятия по‐разному используются и находят каждый свое своеобразное практическое применение в труде актера и в режиссерской работе.
Например, если мы возьмем «внутренний монолог», а он является исключительно важным понятием театральной методологии в целом, то увидим, что он имеет одинаковое по важности значение и в актерском мастерстве, и в режиссуре, но подход к нему в каждом из видов сценической деятельности будет разным и применяется он в обеих профессиях по‐разному.
В актерском искусстве «внутренний монолог» – в обоих его видах. Немирович-Данченко говорил о двух видах внутреннего монолога актера – инструмент актерской работы, непременное, обязательное условие правды актерского существования на сцене, в руках режиссера он важнейший инструмент в его работе с актером. Когда Немирович-Данченко ставил спектакль «Враги» М. Горького, он подсказывал В. И. Качалову, исполнявшему в спектакле роль Захара Бардина, внутренний монолог героя. При этом он подчеркивал, что монолог начинается еще обязательно за кулисами, что в монологе актеру нужно ставить перед собой простые цели, физические задачи, но при этом все время говорить себе: «Я Захар Бардин, сделаю сейчас то‐то и то‐то…» Это было необходимо актеру, чтобы почувствовать физическую правду своей жизни на сцене, а режиссеру – чтобы актер, обретя эту правду, смог плотнее приблизиться к очень непростому образу пьесы Горького.
Здесь надо обратить внимание на очень интересный, важный и поучительный факт того, как методологическое понятие, общее для мастерства актера и режиссуры, но применяемое ими по‐разному, приобретает еще и весьма существенную педагогическую составляющую.
Вообще очень важно понимать тот факт, что разговор о методологии – это всегда в большой степени еще и педагогический разговор; педагогика вообще укоренена в режиссуре, является одной из важнейших составляющих этой профессии, если подходить к ней серьезно и ответственно.
Или возьмем, например, такое фундаментальное понятие режиссуры, как «событие»: без определения событий, событийного ряда спектакля просто невозможно поставить полноценный спектакль. Умение создать сценическое событие и организовать в нем правильную жизнь актеров – существеннейший элемент режиссерского мастерства, без этого нет, собственно, режиссуры.
Событийный ряд – основа спектакля.
Но он так же исключительно важен и для актера, правда, в его работе «событие», будучи столь же важным, как и в режиссуре, является основой работы над ролью – актер на сцене живет только в событиях и событием. То же самое можно сказать и о сценическом конфликте, и о многом другом.
Это чрезвычайно важно, что театральное искусство имеет сегодня хорошо разработанную методологию, что оно системно, опирается на строго научный подход к актерскому и режиссерскому творчеству.
Современный актер, если только он честный художник, обладает хорошими знаниями законов сценической деятельности; в своем творчестве он больше не зависит от вдохновения и настроения. Разумеется, совсем не быть зависимым от настроения нельзя, но именно благодаря методологии современный актер знает, как освободиться от любой эмоциональной зависимости, прийти к правильному рабочему сценическому самочувствию, «поймать» когда‐то неуловимое и капризное чувство, без которого никакого театрального искусства просто быть не может.
Ибо именно и только чувствами актера, излучающимися со сцены в зрительный зал и, как мы потом увидим, имеющими в своей природе весьма существенную социальную составляющую, если не доминанту, и сильно, и прекрасно театральное искусство. В этом, впрочем, театральное искусство ничем не отличается от остальных – никакая идея, как бы она сама по себе ни была замечательна, не способна захватить зрителя, убедить его в своей правде, не будучи выражена в чувственной форме.
«Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя» – блестящая мысль И. И. Бабеля, выраженная не менее блестящим афористическим языком. О чем она? Во-первых, как это ни странно, о том, что прежде чем научиться ставить точку вовремя, надо знать, что такое эта точка и зачем нужна. Стало быть, это еще и вопрос синтаксиса, который учит правилам, по которым соединяются слова и предложения, а в широком смысле – и грамматики, в которую синтаксис входит как важнейшая ее часть.
Это очень интересно и важно, что поэзия требует хорошего знания грамматики. Мы часто склонны сосредоточиваться на поэзии, а грамматикой пренебрегаем.
Ну и, конечно, замечательные слова писателя говорят не только о значении формы в литературе, гением которой был Бабель, но и, что для нас важно, о чувственности вообще художественной формы, о том, что художественная форма может сделать с нашими чувствами. Это важно для литературы, то есть для искусства интимного, писатель общается с читателем один на один и, как правило, в спокойной обстановке, сам процесс чтения всегда нетороплив и обстоятелен. И все равно – писатель говорит о том, что сердце читателя может быть поражено точкой, элементом синтаксиса, только вдумайтесь в это слово, леденяще!
Какой же силы должен быть этот эмоциональный удар!
А что же сказать о театре, где общение происходит спонтанно между живыми людьми на сцене и в зале, какие же по силе эмоции и чувства должны возникать и там, и там! Возникают ли? Это вопрос методологии, потому что эмоциональное потрясение зрителя целиком и полностью зависит от того, насколько хорошо усвоены актерами и режиссером спектакля ее основные понятия, насколько хорошо они знают и умеют применять правила грамматики своего искусства. И сама художественная форма спектакля от этого зависит; все это вместе взятое и составляет то, что великий режиссер и педагог А. Д. Попов так удивительно точно назвал «художественной целостностью спектакля».
Восприятие зрителем спектакля – это восприятие прежде всего тех чувств, которые живут в его атмосфере; она пробуждает чувства зрителя, они в свою очередь влияют на художественную атмосферу спектакля, происходит взаимный обмен чувствами. Прежде всего чувствами, а потом уже – бывает, что гораздо позже посещения театра и просмотра спектакля, – мыслями и идеями.
Немирович-Данченко говорил о том, что идею спектакля, его второй план, его смысл, растворенный в атмосфере, зритель уносит домой, заразившись чувствами актеров, созданной ими сценической атмосферой. Разумеется, зритель сначала должен пережить катарсис, прибегая к отчасти туманному термину Аристотелевой «Поэтики», то есть некое исключительно сильное чувственное потрясение, об этом мы часто забываем, а потом уже в результате этого потрясения к нему непременно придут размышления по поводу того, что он увидел и услышал на сцене. Другое дело, что это потрясение ему приятно. Так приятно, что он стремится еще и еще раз пережить его, снова и снова приходит для этого в театр. Что ж, это потрясение одна из главных, если не главная, особенностей театрального искусства.
Только пережив сильное и всеохватывающее чувство, зритель оказывается способным оценить идею спектакля, сверхзадачу режиссера, принять ее или отвергнуть. Если идея колом торчит в спектакле, а это случается в современном театре сплошь и рядом, или выглядывает из всех его закоулков, то она в лучшем случае оставит зрителя равнодушным, в худшем – отобьет у него охоту дальше посещать театр. Удобнее, да в наше время и значительно дешевле, почитать газету, послушать радио и в крайнем случае посмотреть телевизор, правда, испытывая при этом потрясения другого рода, и совсем не всегда приятные.
Но в театре, в отличие от литературы и других видов искусства, эта присущая вообще всякому искусству способность заражать зрителя идейно, через возникающие у него от соприкосновения с предметом искусства чувства (а в театре мы можем сказать – с живым сиюминутным процессом искусства), целиком и полностью зависит от живого человека на сцене. А он подвержен десяткам тысяч раздражающих и отвлекающих актера от сценического действия факторов.
И в этом заключается уникальность театра и одновременно его самая большая трудность и уязвимость; способность заражать зрителя зависит от актера, от его правильного и, что исключительно важно, сиюминутно правдивого бытия на сцене. И вот если актер по каким‐то причинам, а таковых, повторяем, множество, теряет нить правильного бытия на сцене и у него не получается восстановить ее – то есть снова встать на верный путь сценического существования, то на помощь ему приходит режиссер.
Режиссер-педагог, оснащенный методологией художник, способный увидеть в актере то, чего сам актер в себе часто не видит, не находит, умеющий понять природу его таланта, знающий, как открыть перед ним неожиданные пути работы над ролью и направить его творчество через верную сценическую жизнь к созданию художественного образа.