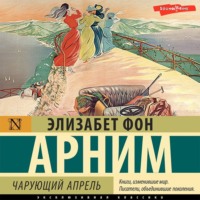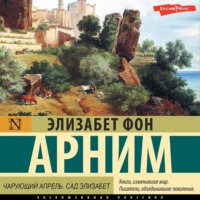Полная версия
Искупление
– Дело здесь нечисто.
Едва прозвучала эта фраза, ее тотчас признали верной. «Иначе и быть не могло, дело нечисто» – вот самые подходящие слова. Ни один мужчина не совершил бы того, что сделал Эрнест, и не оставил бы без изменений свое распоряжение, сделанное два года назад, не будь у него веских и, должно быть, ужасающих причин.
– О да, ведь он подлец и трус! – взорвался Берти.
– Берти! – негодующе вскричали остальные и с укором напомнили ему, что Эрнест мертв.
– Тут я ничего не могу поделать, – буркнул он, как будто кто-то полагал, что это в его силах.
Жена, прищурившись, окинула его цепким взглядом. Она давно подозревала, что Берти интересуется Милли больше, чем допустимо для деверя.
Старая миссис Ботт выразила желание, чтобы ее отвезли домой. Ее дети, похоже, собирались затеять ссору. Все это совершенно бессмысленно: если бы они только могли понять, что лишь зря тратят время да расточают чувства, бедняжки. Но стоит им начать, их уже не остановишь. Толку от нее здесь все равно не будет, так что лучше отправиться домой, отдохнуть, выпить чаю.
– Алек, дорогой, ты отвезешь меня домой? – продребезжала старая леди, пытаясь привлечь внимание старшего из сыновей, который был так смущен и ошеломлен случившимся, что не услышал ее.
Все Ботты, смущенные и ошеломленные, толпились растерянными группами в столовой, не обращая внимания на уставленный закусками боковой стол и мешая служанкам внести суп и кофе. Дверь закрыли – об этом позаботился Фред. Лучше, чтобы в такое время поблизости не крутились служанки, да и едва ли это был подходящий момент для еды и питья. Впрочем, жена Джорджа, та, что отличалась буйным темпераментом, чьи глаза горели от возбуждения и любопытства, украдкой поглощала одну за другой шоколадные конфеты (но она ведь не была урожденной Ботт!).
– Хитрюга Милли, – прошептала она, спеша первой приписать вдове все грехи. – Этакая тихая, смиренная мышка. Подумать только!
Да, в самом деле хитрюга, подумали остальные невестки.
Прежде в этой семье ничего подобного не случалось. Они стояли, глядя друг на друга, а на заднем плане маячил Титфорд, который ни о чем пока не ведал, но, если не принять строжайших мер предосторожности, узнал бы, и очень скоро, ибо он всегда тотчас узнает обо всем, что случается, дай только повод.
Что же делать? Разумеется, без сомнения, что угодно: дело дурно пахло.
– Вы помните ее сестру? – шепнула жена Берти.
Помнили ли они? Еще бы: так же ясно, будто это было вчера. Одна кровь, говорили их глаза, когда они сокрушенно кивали, отрава снова дала о себе знать. Но когда дурная кровь дает о себе знать в девятнадцать лет – это одно, а когда в сорок пять – это, конечно, куда хуже.
Нет-нет, говорили братья и зятья, сгрудившись в кучу, это немыслимо. Думать противно, даже на минуту невозможно представить, что Милли… Истина в том, что Эрнест был трусом, вдобавок с дьявольским характером, который он не смел показать, поскольку знал: никто не поверит, будто Милли могла дать ему повод для недовольства. Вот он и отомстил, выместил на ней свою злобу, сыграв эту подлую шутку. Крайне неприятно, что приходится считать его негодяем теперь, когда он мертв, но ничего не поделаешь.
Да-да, говорили сестры и невестки, несомненно, так и есть, и как только братья могут говорить так дурно о бедном Эрнесте, которого уже нет с нами? Конечно, неприятно, что приходится иначе взглянуть на Милли, которую всегда ставили им в пример как образцовую жену (они посмотрели на своих мужей) и образцовую дочь (они перевели взгляд на почтенную пожилую даму); неприятно, но приходится признать, что все это время она их обманывала, ведь порочить покойных никак нельзя. Очевидно, Милли каким-то образом глубоко ранила Эрнеста. Да, должно быть, оскорбила. Только так и можно объяснить эту приписку к завещанию. Целых два года, а возможно, и дольше, она водила всех за нос. Она, в ее-то возрасте и с ее фигурой!
– Послушайте, тощие жерди, оставьте в покое фигуру Милли! – вспылил Берти.
«Надо же такое сказать! – в негодовании подумали женщины. – Причем именно сейчас, когда мы все собрались по случаю события, которое только что перестало быть похоронами».
– Алек, дорогой, – возвысила дрожащий голос старая миссис Ботт, снова пытаясь привлечь внимание сына.
– Замолчи, Берти! – пробормотал брат Джордж, тихий плотный мужчина с очками в роговой оправе на носу.
Он сам охотно сказал бы что-нибудь подобное, но какой в том прок? В конце концов, ему и братьям придется улечься в постель со своими женами, а если в спальне не будет царить покой, то на следующий день все пойдет кувырком, в делах наступит полный хаос. Вот как, думал Джордж (мужчина простой и разумный, с простыми разумными мыслями), женщины и берут над нами верх: просто терзают нас, истощают, изнашивают в постели.
– Алек, дорогой…
– Препирательства – пустая трата времени. – Фред, самый богатый в семье, вынул из кармана часы.
– А я бы сказала: громадная потеря времени – забыть, что джентльмен должен вести себя соответственно, – вмешалась жена Алека, обычно немногословная, но глубоко уязвленная словами Берти.
– Вопрос, несомненно, заключается не в том, – произнес Алек и нервно пригладил бороду, – что сделала Милли или чего не сделала, и даже не в том, на что похожа фигура бедняжки. – Тут он примирительно взглянул на собравшихся в кучку жен. – Главное – какие шаги мы должны предпринять, чтобы не поднялась шумиха. На мой взгляд, крайне важно избежать огласки.
Да, они понимали – с этим согласились все, – и все содрогнулись, когда представили, какие слухи поползут по Титфорду, если станет известно, что Эрнест обделил жену в завещании, оставив ей жалкую тысячу фунтов, а все остальное пожертвовал на благотворительность. Об этом никто не должен узнать. Слухи необходимо пресечь любой ценой. Благотворительность! Чем больше они об этом думали, тем сильнее их мучил стыд. Воистину ни одна комната прежде не вмещала столько людей, охваченных стыдом, как столовая Эрнеста в тот день. Они стыдились за покойного, стыдились за поверенного, стыдились за Милли, но больше всего (они осознали это, обдумывая все позже) стыдились за пожертвование. «Дом спасения» для падших женщин? Выбрать подобное заведение – просто неслыханно. Совершенно необъяснимый поступок со стороны Эрнеста.
Но затем как-то само собой и этому нашлось объяснение. Неизвестно, кому первому пришла в голову та мысль, но разгадка, подхваченная сестрами и невестками, понеслась по комнате тихим шепотком от одного уха к другому, ужасная разгадка: «Он хотел обеспечить ее будущее».
Всех охватила дрожь, в столовой повисло молчание, потом у кого-то вырвался сдавленный смешок.
– Алек, дорогой, – продребезжала старая миссис Ботт более настойчиво. Бедные дети, в них столько гнева и злобы. Куда как лучше съесть немного горячего супа с сандвичем, а затем тихо отправиться домой и хорошенько выспаться.
– Господи, как бы я хотел… – снова взорвался Берти и с такой силой обрушил кулак на стол, что чашки подскочили на блюдцах.
Но он так и не сказал, чего хотел от Господа. Берти оборвал себя, весь красный, словно воротничок сорочки начал его душить. Какой в этом прок? Лучше промолчать, решил он, вспомнив (и он тоже), как важен ночной покой. Ведь на следующий день ему предстояло уладить одно деликатное дело с Паллисером и Лидсом. Он не мог себе позволить явиться на встречу с истрепанными в клочья нервами.
Фред снова взглянул на часы и заметил:
– Мы теряем время.
– Совершенно верно, – подтвердил Алек, нервно поглаживая бороду. Среди Боттов он единственный носил бороду, и весьма красивую, довольно длинную, посеребренную сединой за прожитые годы, всегда безукоризненно чистую. Борода служила ему великим утешением: когда Алек волновался и нервничал, то всегда ее поглаживал – его это успокаивало.
– Какую линию поведения мы выберем в отношении Милли? – осведомился Фред и щелкнул крышкой золотых часов, завещанных ему отцом.
– Куда важнее, – возразила жена Берти, – какую линию поведения мы выберем в отношении Титфорда.
– Разве это не одно и то же? – подал голос один из зятьев, мужчина мягкий, и, несомненно, подумал: «Не слишком ли воинственно я задал вопрос?»
Жена Берти, как видно, решила, что он и вправду взял неверный тон, поскольку повернулась к нему и язвительно ответила, что это вовсе не одно и то же, и прибавила:
– По крайней мере, мне так кажется, но, возможно, я не настолько умна, как вы.
«Бедный старина Берти», – подумал зять.
«Бедные детки», – подумала старая миссис Ботт и произнесла:
– Алек, дорогой…
– Конечно, одно и то же, – отчеканил Фред. – Для Титфорда.
– Я тоже так считаю, – решился вставить слово Алек, запустив пальцы в бороду. Он безумно боялся семейных совещаний. Женщины, когда собирались вместе, раззадоривали и подстрекали друг друга. По отдельности они были довольно милыми и добродушными. Какая злая сила вселялась в них, отчего они становились дикими и непокорными, стоило им собраться вместе? Даже его тихая жена Рут…
Тогда Уолтер Уокер из «Шадуэлл и Уокер», что на Треднидл-стрит, один из крупнейших комиссионеров по продаже шерсти, возвысил голос и осторожно высказал свое предложение.
– Правда, не знаю, насколько это поможет, – сразу оговорился он, чтобы показать: он отлично сознает, что не один из Боттов, а лишь связан с ними узами родства, а потому едва ли способен предложить что-то дельное. – Каждой семье по очереди нужно взять Милли к себе погостить месяца на три… возможно, на полгода. Пригласить бедняжку в дом, окружить заботой… – Он осмелел настолько, что заставил себя бесстрашно обвести взглядом сквозь очки невесток и своячениц. – Поскольку это не только, без сомнения, достойное поведение по отношению к той, что всегда заслуживала самого доброго отношения, к той, что внезапно потеряла все: мужа, состояние и дом, да вдобавок осталась бездетной…
– И по чьей вине? – вмешалась его жена.
– Моя дорогая, ты ведь не станешь уверять, будто ее вина в том, что она потеряла Эрнеста, – мягко возразил Уолтер.
– Или в том, что у нее нет детей, – подхватил Берти.
– Пожалуйста, давайте обойдемся без грубостей, – заговорила жена Берти, сощурившись.
– Ты прекрасно понял, что я хотела сказать, – продолжала жена Уолтера. – Чья вина в том, что она потеряла состояние?
– Эрнеста, конечно, – отозвался Берти.
– Обидно, Берти, что ты так упорно говоришь это о покойнике, – укорила деверя жена Алека.
«Несчастные дети, сколько в них гнева. А сам Эрнест, из-за которого они ссорятся, тихо-тихо лежит себе на холме под своими прекрасными венками».
– Алек, милый…
– Ладно, мы не будем сейчас это обсуждать, – отрезал Фред, в третий раз посмотрев на часы.
– Могу я докончить свою мысль? – кротко спросил Уолтер Уокер.
– Вне всякого сомнения, – ободрил его Алек, пытаясь найти утешение в своей бороде.
– Это будет не только достойный поступок, – Уолтер прочистил горло кашлем, – но и превосходный, наилучший способ пресечь сплетни и нападки. На мой взгляд (конечно, я только предлагаю, вы можете со мной не согласиться), – он, как бы оправдываясь, обвел глазами собрание, – каждой семье по очереди следует приглашать Милли к себе в дом и принимать радушно, тепло и приветливо, причем так, чтобы все в Титфорде об этом знали.
– Ты хочешь сказать, что так всегда и будет продолжаться? – воскликнула его жена.
– А почему бы и нет? – спросил он.
– Ты хочешь сказать, что Милли будет гостить у всех нас по очереди до конца своих дней? – осведомилась жена Берти.
– Почему бы и нет? – повторил Уолтер Уокер.
Наступило молчание. Женщины переглянулись: даже если отбросить в сторону нежную заботу о Милли (полнейшая глупость со стороны Уолтера: с какой стати оказывать радушный прием той, что навлекла на них одни неприятности и позор?), взять к себе в дом родственницу – дело крайне деликатное. Даже при самых счастливых обстоятельствах, какие они только могли вообразить, подобный шаг ставит семью в щекотливое положение, если только особа, которую приглашают в дом, не богата настолько, чтобы не нуждаться в благодеяниях. А нынешние обстоятельства никак нельзя было назвать счастливыми. Напротив, их следовало бы назвать крайне сомнительными. Женщины семейства Ботт твердо в это верили, а их мужья смутно подозревали. Потребуется изрядный запас человеколюбия, думали жены (за исключением жены Джорджа, исполненной волнения и любопытства и жаждущей незамедлительно взять к себе невестку), чтобы впустить Милли в свой дом и в свое сердце, в круг невинных детей и внуков после всего, что она натворила, что бы это ни было. Да вдобавок холить ее и лелеять!
– Уолтер совершенно прав, – заявил Фред.
– Конечно, ей нужно где-то жить, – отозвался Алек.
– А на проценты от тысячи фунтов не проживешь, – неодобрительно заметил Уолтер Уокер. – С такими деньгами, конечно, можно прожить, но разве что на чердаке или в подвале, или умереть. Уверен, никто из нас не хочет, чтобы Милли жила на чердаке или в подвале и тем более умерла.
– Я плачу машинистке полторы сотни в год, – сказал Фред, – в три раза больше, чем то содержание, что получит Милли со своей тысячи, а это лучшее, на что она могла бы рассчитывать. Так что, похоже, наследство не спасет ее от нищеты.
– Разумеется, мы не можем позволить кому-то из нашей семьи жить на чердаке или в подвале, – вмешался Алек, потрясенный зловещей картиной, которую нарисовал Уолтер.
Нет, конечно, этого нельзя допустить, согласились жены и сестры. Семья всегда вела себя щедро и великодушно, когда дело касалось денег, и ни за что не дала бы Титфорду повод заподозрить ее в низости или скаредности. Возможно, Милли придется приютить. Но как это неприятно, как неловко и, без сомнения, мучительно.
– И чем скорее, тем лучше, – заключил Берти.
– Полагаю, начнем с нас, – прищурилась и смерила взглядом мужа его жена.
«Она похожа на зубочистку, – подумал Берти, со злостью глядя на нее. – Такая же тощая». Но вслух произнес, стараясь придать голосу спокойствие:
– Дом могут продать со дня на день без ведома Милли. Мне не понравилось, как смотрел на нее тот молодчик, поверенный Эрнеста. В его глазах была враждебность.
– Возможно, он знает больше, чем мы, – возразила его жена.
Берти снова метнул на нее свирепый взгляд, но промолчал.
– Но почему же Эрнест утаил все от нас и назначил своими душеприказчиками какого-то адвоката, которого никто из нас не знает, и директора того крайне неприятного благотворительного учреждения… – произнес Алек и сжал в кулаке бороду.
– Да, я тоже не понимаю, – согласился Уолтер Уокер.
– Во всем этом есть что-то чертовски странное, – подтвердил Фред.
– Дело нечисто, – проронила жена Джорджа.
И в самом деле, чем больше они об этом думали, тем чаще приходило на ум слово «нечисто» – одно, единственно верное.
– Но когда вы, мужчины, говорите, что мы должны не только приютить ее, но и окружить заботой… – начала жена Берти.
«Она и есть самая настоящая зубочистка, – сказал себе Берти, сунул руки в карманы и отошел к окну, глядя перед собой. – Все зудит и зудит…»
– Только мужчине может прийти в голову подобная мысль, – изрекла жена Уолтера Уокера и сурово посмотрела на мужа: тот тоже направился к окну, встал рядом с Берти и рассеянно обвел взглядом открывшийся вид.
– Черт возьми! – буркнул Фред, самый преуспевающий в этом преуспевающем семействе и самый храбрый из Боттов. – Ее нельзя не окружить самой нежной заботой. Это было бы бесчеловечно. Ей нужна ласка.
Ласка?
Ответом было потрясенное молчание.
– Конечно, вы, мужчины, думаете, будто это так просто, – произнесла вдруг жена Фреда, чего никто не ожидал, поскольку обычно она предпочитала помалкивать.
– Да, вы всегда выставляли себя полнейшими глупцами, когда дело касалось Милли, – заявила старшая из сестер Ботт.
– Наводили смертельную скуку, перечисляя ее добродетели: Милли – то, Милли – это, – проворчала другая сестра.
– Твердили о ней изо дня в день, пока нам не опостылело само ее имя, – подхватила еще одна сестра.
– Как можно было ею восхищаться за то лишь, что она расплылась и утратила былую фигуру? – проговорила другая, и все четыре жены четырех братьев Ботт единодушно кивнули в знак согласия.
Эта внезапная вспышка злости привела мужчин в изумление, а те двое, что стояли у окна, даже обернулись.
– Но нам всегда казалось, что наши жены очень любят Милли, – послышался чей-то удивленный шепот.
– Любим Милли? Конечно, мы ее любили! – воскликнули женщины. – Но это нас никогда не ослепляло…
– Вдобавок вы хорошо знаете: теперь все изменилось…
– Вы же сами признали, что дело нечисто…
Следующие десять минут в комнате слышался лишь неясный шум разгоряченных голосов и обрывки фраз.
Бедные, несчастные дети, сколько в них страсти и гнева! Старая дама могла лишь сидеть и слушать, сжимая трясущимися руками набалдашник трости. Бессмысленно и пытаться их остановить. Придется им самим пройти этот путь до конца. Вскоре в комнате снова воцарится покой, а шум и ярость, что бушевали вчера, месяц, год, двадцать лет назад, исчезнут навсегда, растворятся в тишине. А потом, не успеют они оглянуться, задуматься и осмыслить прожитые годы, как эти несчастные, обуреваемые страстями дети тоже упокоятся навсегда, уснут вечным сном, как Эрнест. Жаль, они не понимают, и никто не в силах заставить их понять, что в конце все это уже не будет иметь значения; неважно, что хотел сказать Эрнест или что совершила Милли, им следовало быть добрее друг к другу и наслаждаться счастьем в этот самый день, как, впрочем, и во все остальные из немногих отпущенных им дней, и вместе поесть чудесного супа с сандвичами в тишине и покое. Кухарка Милли как раз приготовила такой. Жаль, теперь все пропадет, и ради чего – чтобы злиться и сыпать оскорблениями?
Сделав громадное усилие, она ухватилась одной рукой за каминную полку, другой тяжело оперлась на трость и поднялась с кресла.
Все повернулись и удивленно воззрились на нее. Дети забыли, что она здесь.
– Мои дорогие, – продребезжала старая дама. – Я хочу вернуться домой.
– Конечно, мама, – отозвался Фред, стоявший ближе всех, просунул ее руку себе под локоть и погладил. – Вы устали?
– Я вызову машину. – Алек позвонил прислуге.
– Я вас не видел, мама: вы сидели так тихо, – произнес Джордж.
– Мои дорогие, – обвела она всех глазами, – не ссорьтесь.
– Мы просто обсуждаем, – сказала старшая дочь.
Она вышла замуж довольно поздно, и это стало великим облегчением для старой миссис Ботт, поскольку одно время все думали, что этого никогда не случится, а было бы очень жаль: почтенная дама считала, что женщина, пока не пройдет через испытание замужеством, никогда по-настоящему не поймет замысла Господнего в отношении ее.
– Мама, – объяснила старшая дочь остальным, хорошо знакомым с этой теорией, – всегда думает, будто мы ссоримся, когда что-то обсуждаем.
– Обычно бывает именно так, мои дорогие, – заметила старая дама. – К тому же вы ужасно распаляетесь. Посмотрите на свои сердитые лица. Лучше бы вы все поели этого славного супа, запах которого доносится из-за двери. Уверена, он уже готов: только и ждет, чтобы его принесли с кухни. Тарелка супа пойдет вам на пользу.
– Мама, – объяснила старшая дочь остальным, столь же хорошо знакомым и с этой теорией, – неизменно считает, будто все можно уладить с помощью тарелки супа или чашки чая.
– В основном так и случается, моя дорогая, – ответила почтенная дама, опираясь на руку Фреда.
– Эта теория вовсе не лишена смысла, – произнес муж самой младшей из дочерей, некий мистер Ноукс из страховой компании «Вдовцы Уэльса», и жена Джорджа с ним согласилась.
– Давайте поедим супа, Алек. Может, и по бокалу хереса выпьем в придачу?
– И еще, дорогие мои, – продолжала пожилая дама, обращаясь ко всем, пока рука Фреда служила ей опорой, – пожалуйста, не забивайте свои бедные головы мыслями о Милли и о том, кто ее приютит, поскольку я сама намерена взять ее к себе и позаботиться о ней. Так-то, Уолтер, дорогой.
– Вы, мама?
Вся семья не сводила глаз со старой миссис Ботт.
– Но вам это не по средствам… – начал кто-то.
– Не по средствам, мои дорогие? – перебила она. – Да, пожалуй, но это по средствам вам. Все вы можете разделить расходы, и каждый внесет свою лепту – сколько, по-вашему, будет довольно для бедняжки Милли. Ей много не нужно. Она так мало ест.
Теперь все смотрели друг на друга. Ну конечно! Это единственно верное решение. И такое надежное. Все избавятся от обузы, Милли будет укрыта от досужих сплетен и пересудов, а любовь и респектабельность старой дамы станут для невестки крепким щитом. – И как никто раньше об этом не подумал? Чудачка мать в своем почтенном возрасте все еще могла высказать здравую мысль! Вдобавок обойдется все недорого – прикинув в уме расходы, решила та часть семьи, которую старая миссис Ботт именовала девочками, – выплачивать много не придется. Проценты с тысячи фунтов – неплохое подспорье, а если каждый из девяти братьев и сестер выделит, скажем, пятьдесят фунтов в год…
С каждого по пятьдесят? О нет, это много, слишком много. Пятьдесят с каждого вместе с ее пятьюдесятью составят пятьсот фунтов в год, а ведь ей не на что их тратить, совершенно не на что.
Значит, по тридцать с каждого.
Следует платить по пятьдесят, сказала жена Джорджа, но остальные жены возразили, что это, может быть, и хорошо для нее, ведь у них в семье только один ребенок, и, соответственно, ей почти не на что расходовать деньги Джорджа…
Двадцать, предложил кто-то. Вполне достаточно будет двадцати с каждого.
Жена Джорджа все еще настаивала на пятидесяти, а жена Алека заметила, что, по ее мнению, лучше ограничиться тридцатью…
Наконец они решили, что лучше просто оплачивать все хозяйственные расходы матери, разделив траты между собой.
– А разве ей не нужна одежда? – спросил Фред.
Одежда? Но ведь она вдова, а вдовам ни к чему наряды – по крайней мере в течение года, возразили жены. А кроме того, в ее распоряжении все платья, которые она носила прежде, до смерти Эрнеста. Нет, новая одежда, насколько они могут судить, ей понадобится еще не скоро.
– Если учесть, что платить за Милли мы будем собственными деньгами… – начал было Берти.
– Не совсем собственными, – вскинулась его старшая сестра (у нее, как и у остальных дочерей в семье Ботт, имелись свои капиталы), но тут старая дама, желая положить конец пререканиям, опять вмешалась:
– Я заберу Милли с собой прямо сейчас, если она поедет. Алек, дорогой, поднимись в спальню и приведи ее. Тогда мы вернемся домой как раз к чаю.
Но Алек, спустившись, сообщил, что Милли заснула и просила прислугу передать, чтобы ее не беспокоили.
– Не понимаю, как можно сейчас спать, – пробормотала жена Джорджа.
– Бедное дитя! Пусть поспит, ей это нужно, – сказала старая миссис Ботт и прибавила: – Значит, завтра. – Когда Алек и Фред вывели ее из дома и бережно усадили в автомобиль, дама спросила: – Алек, дорогой, ты мог бы завезти ее ко мне по пути в Сити?
Однако на следующий день, когда делегация из братьев Ботт явилась на Мандевилл-Парк-роуд, чтобы рассказать Милли о принятом решении и объяснить, что это не просто наилучший, а единственно возможный выход и что она не может оставаться в доме, поскольку в любую минуту его могут продать, они обнаружили, что вдова уехала рано утром, еще до завтрака, и никто не знает куда.
Глава 3
Милли грешна, вот уж целых десять лет как.
Подозрения золовок и невесток, сомнения деверей и зятьев были вполне справедливыми: она обманывала Боттов и все эти годы была неверна Эрнесту.
Началось все совершенно случайно. Ведь это чистая случайность, думала Милли, оглядываясь назад и возвращаясь мыслями к самому началу; теперь она понимала это с ужасающей ясностью, которая есть не что иное, как ступень осознания. Пустячные мелочи потянули за собой всю цепь событий. Приди она пятью минутами раньше или позже, и никогда бы не встретила Артура. Пропущенный поезд, медлительный шофер такси, даже минутная заминка во дворе, чтобы посмотреть на голубей, или, возможно, капелька благопристойной сдержанности могли бы ее спасти. Но, увы, Милли успела на поезд, такси мчалось быстро, голуби ее не интересовали, и она переступила порог вовремя, чтобы там, в Британском музее, в галерее, где стоят бюсты римских императоров, встретить Артура Озуэстри, с кем и согрешила.
Да, в конце концов грех случился. Долгое время они даже не помышляли, что все идет к этому. Милли обнаружила, что грех подкрадывается незаметно и бесшумно следует за ней, хотя довольно долго сохраняет личину благообразия. Они неделями встречались, прежде чем это действительно произошло, – встречались там же, в Британском музее, потом в Национальной галерее, в чайных, в парках, а однажды даже в Вестминстерском аббатстве, что казалось теперь особенно греховным. Недели проходили в беседах, приятных, утешительных, озарявших ее дни, совсем непохожих на разговоры в Титфорде; за ними последовали недели сомнений, боязливой дрожи, вспышек румянца, когда она возвращалась домой и безмятежный взгляд Эрнеста задерживался на ней дольше обычного. Она вздрагивала, если муж вдруг заговаривал с ней, а какими грязными, презренными казались ей теперь их жалкие соития! Потом наступили недели, полные нестерпимого желания отгородиться от Боттов, освободиться от всех обязательств, а за ними пришло время отвращения и острой жажды, недели мучительных попыток следовать долгу, избегать Артура, не видеть его, забыть, стереть из своей жизни. Да, прошло много времени, и все же в конечном счете грехопадение произошло, они вступили в пору счастья, полного сомнений, в пору бесконечного нетерпеливого предвкушения и вечных несбывшихся ожиданий, в пору чудесных грез, когда они были в разлуке, и острых, как лезвие бритвы, чувств, когда были вместе. И всегда их преследовал безумный страх: страх, что их разоблачат, – и этот страх придавал остроты их страстной любви, запретной страстной любви, иными словами – греху. Милли знала это с самого начала, а теперь осознала снова, и это ее ошеломило.