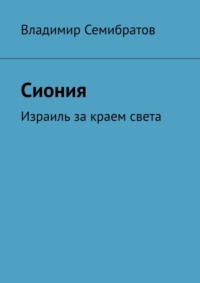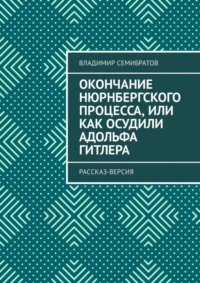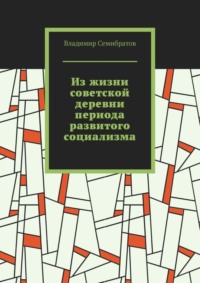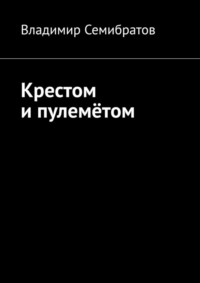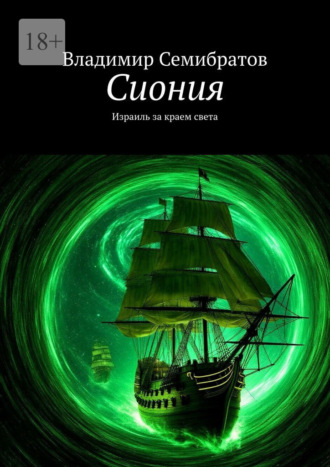
Полная версия
Сиония. Израиль за краем света
Глава 3. Морской заяц
Благодаря попутному ветру и хорошей погоде, в течение двух суток удалось без каких-либо приключений пересечь всё Северное море и, обогнув Оркнейские острова, выйти в Атлантический океан. Вахта сменяла вахту, команды кораблей постепенно втягивались в работу, а пассажиры, понемногу попривыкнув к качке и избавившись от морской болезни, привыкали к новой для себя роли созерцателей огромного водного пространства, теперь уже без каких-либо признаков земли, на долгие недели перехода до самых Азорских островов. Казалось бы, вряд ли что-то может существенно нарушить установившийся порядок. Но жизнь человеческая, как известно, полна неожиданностей, а потому на третий день плавания на борту «Авраама» был совершенно случайно обнаружен лишний пассажир. А произошло это так. Вскоре после полудня в каюту к Исааку Штерну, как раз в тот момент, когда Абрахам Ван-Вейден заканчивал доклад о результатах штурманских наблюдений, явился матрос и с несколько растерянным видом доложил, что обнаружен неизвестный мужчина.
– В трюме среди груза прятался, герр Штерн. Нашли случайно. Но на беглого преступника не похож. Оружия при себе нет, только сундучок с вещами. И старый, лет под пятьдесят, чем-то на аптекаря или доктора похож, уж больно на вид умный. Его сейчас морские пехотинцы стерегут. Капитан за вами послал.
На несколько мгновений в каюте воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь плеском волн за бортом да свистом ветра в такелаже (примечание 16), после чего Исаак Штерн, издав нечто похожее на рычание льва, с самым решительным видом покинул каюту. Абрахам Ван-Вейден последовал за ним, прекрасно понимая состояние главы экспедиции.
Собственно говоря, в произошедшем не было ничего из ряда вон выходящего. Подобные случаи хотя и нечасто, но бывали, когда доведённый до отчаяния нищетой и беспросветностью человек, не будучи в состоянии оплатить переезд в колонии, в надежде на лучшую и более счастливую жизнь тайно пробирался на борт корабля и обнаруживал себя лишь на значительном удалении от берега, прекрасно понимая, что ради одного человека никто назад возвращаться не будет, как и выкидывать за борт самозваного пассажира. Ну, максимум выдерут линем (примечание 17) за подобное, да и то вряд ли. Толку-то, денег же от этого не прибавится. Скорее всего, запишут в команду на самые простые работы – палубу драить, чтобы зря хлеб не ел и хотя бы так заплатил за переезд. Но это на обычных кораблях, идущих в американские колонии. У них дело другое, и ещё неизвестно, что этот по виду умный «аптекарь» или «доктор» мог за два дня нахождения в трюме разузнать и услышать. А стало быть, вплоть до того, что посадить под замок до самого прибытия в Австралию. Но в любом случае назад, в Европу, как минимум до официального провозглашения независимой колонии Израиль, ему путь заказан.
На палубе было полно народу, а возле грот-мачты под охраной двух морских пехотинцев стоял человек, действительно возрастом лет под пятьдесят, невысокого роста, хотя и довольно крепкого телосложения, лысоватый, в дешёвой, сильно потрёпанной одежде, напоминающий по виду не аптекаря или врача, в этом отношении Абрахам Ван-Вейден был с матросом не совсем согласен. Больше всего самозваный пассажир был похож на профессора университета. Во всяком случае, в Падуанском университете, в котором Абрахаму Ван-Вейдену посчастливилось бывать, профессора выглядели именно так. Если, конечно, надеть на неизвестного вместо его лохмотьев профессорскую мантию.
– Я Исаак Штерн, судовладелец. С кем имею честь?! – Исаак Штерн смерил самозваного пассажира недобрым взглядом.
– Мигель де Торес, физик, астроном и математик. Прошу извинения, герр Штерн, что мне пришлось тайно проникнуть на борт вашего корабля, но у меня на то были очень веские причины. Я вполне платёжеспособен и могу заплатить за переезд.
Де Торес хлопнул себя по боку, отчего раздался лёгкий металлический звон.
– На нём пояс с монетами, – пояснил командир морских пехотинцев. – Утверждает, что золото, но мы не проверяли.
– Золото, золото, – закивал де Торес. – Так что за переезд хоть двойную плату. Каюта мне не нужна, могу удовлетвориться местом в трюме и никому не буду в тягость.
Причём последняя фраза была произнесена на языке иврит, а в течение следующего часа все собравшиеся на палубе имели возможность услышать удивительную историю жизни Мигеля де Тореса, происходившего из семьи состоятельных испанских евреев-марранов и посвятившего себя науке, а также знакомого со многими видными учёными Европы, слушавшего лекции самого Галилео Галилея и вынужденного теперь бежать за океан под угрозой преследования со стороны инквизиции за отстаивание Коперниканской системы мира (примечание 18).
– Они на меня давно зубы точили, – вздохнул Мигель де Торес. – Думал, что если перееду в Гамбург, будет поспокойней. Всё же вольный город, где инквизиция особо не в чести, но несколько дней назад заметил, что за мной следят, и понял: либо мешок на голову и костёр где-нибудь в Риме или Севилье, откуда я родом, либо надо перебираться за океан. Но в открытую отплыть было нельзя, меня бы и в колониях нашли. В порту я узнал, что четыре корабля, судовладелец которых – еврей, перевозят в колонии евреев, и подумал, что это для меня самое лучшее. Свои своего не выдадут. Ночью, перед самым отплытием, добрался вплавь до «Авраама», вещей-то у меня, считай, ничего, один сундучок. Залез по якорному канату – и в трюм. Два дня просидел, думал уже самому выйти, а тут меня и нашли.
– Да, вы правы, сеньор де Торес. Свои своих не выдают, – Исаак Штерн улыбнулся. – Но ответьте прямо: инквизиция вас только за науку преследовала или ещё за тайный иудаизм?
И, увидев, как побледнел де Торес, продолжил:
– Можете не опасаться, сеньор де Торес, здесь, среди нас и на остальных трёх кораблях, христиан нет вообще. Либо иудеи, либо формально христиане, а на деле тайные иудеи.
– Да, я тоже, но…
– Вы хотите знать, почему мы этого не скрываем? – Исаак Штерн снова улыбнулся. – Потому что мы идём не в Америку. Наша цель – Австралия, где будет создана независимая колония Израиль, в которой евреи смогут жить свободно, исповедуя веру предков, не прикидываясь христианами и никого не боясь. И все, кого вы здесь видите, – это первая партия колонистов. А Америка – это так, для вида. Сами понимаете, в таком деле многое приходится скрывать. Так что вы оказались в нужное время в нужном месте, сеньор де Торес. Добро пожаловать в ряды колонистов. Умные и образованные люди нам нужны, а про оплату и переезд в трюме забудьте, места у нас хватает.
– Воды дайте, – наконец попросил находящийся в полуобморочном состоянии де Торес.
– Вовнутрь или на голову? – поинтересовался ребе Михаэль Финкель, являвшийся не только раввином, но и врачом, желая тем самым посредством шутки привести в себя вновь прибывшего жителя колонии Израиль.
– Если можно, – Мигель де Торес буквально подавился смехом, а вслед за ним и все остальные.
Так завершилось знакомство.
За неимением свободных жилых кают Мигеля де Тореса поселили в кают-компании, куда перенесли его нехитрый багаж, состоящий из сундучка с книгами и письменных принадлежностей. А уже вечером Мигель де Торес, успевший к тому времени перезнакомиться со всеми на борту и получивший разрешение от Исаака Штерна, читал всем желающим, коих нашлось немало, лекцию о строении мира по системе Коперника, что навело Абрахама Ван-Вейдена на мысль организовать курсы подготовки штурманов – как задел на будущее. Ведь колония Израиль будет расти, развиваться, а это невозможно без регулярного сообщения с Европой, стало быть, в ближайшее время понадобятся опытные навигаторы, способные прокладывать курс кораблей будущего иудейского флота.
Глава 4. По лезвию ножа
Почти четыре недели перехода до Азорских островов пролетели незаметно. Лишь однажды налетел шторм, свидетельствующий о том, что в Северном полушарии осень уже вступила в свои права, да пару раз на горизонте мелькали паруса встречных кораблей. Вот и все происшествия. Несмотря на то, что никому особенно скучно не было, действовала открытая Абрахамом Ван-Вейденом навигацкая школа, а Мигель де Торес периодически устраивал лекции то на одном, то на другом корабле маленькой эскадры, повышая тем самым общий образовательный уровень будущих колонистов. Все с нетерпением ждали захода в город Понта-Делгада – главный порт и столицу Азорских островов, где можно не только почувствовать под ногой твёрдую землю, но и нормально поесть, потому как ежедневная похлёбка с солониной и сухарями, даже приправленная овощами, которые, как и лимонный сок, выдавались для профилактики цинги, уже порядком поднадоела. Хотелось чего-нибудь жареного, только что с вертела, под хорошее вино с ароматным белым хлебом. И всё это ждёт на берегу, в уютных кабачках и тавернах Понта-Делгады. Но столь радужным надеждам не суждено было сбыться, и лишь благодаря счастливой случайности Понта-Делгада не стала конечной точкой экспедиции. Но обо всём по порядку.
Остров Сан-Мигель, самый крупный и самый населённый из всей группы Азорских островов, появился вскоре после полудня, выплыв из-за юго-западной части горизонта. Но, несмотря на то, что погода была великолепная (лёгкий бриз и почти полное отсутствие волн), океан был пустынен, и это сразу насторожило Абрахама Ван-Вейдена. Ведь Азорские острова – это основной перевалочный пункт для кораблей, идущих в Южную Америку и на острова Карибского моря. В былые времена от кораблей здесь было не протолкнуться. А тут никого. И даже если предположить, что им просто повезло не встретить здесь и сейчас ни один корабль, то где рыбаки? Уж чего-чего, а всякой рыбацкой мелочи в этих водах всегда хватало, а тут будто вымерли все. В высшей степени странно, если не сказать больше.
– Я, герр Штерн, в этом отношении с герром Ван-Вейденом согласен, – капитан Олаф Ларсон опустил подзорную трубу после очередного осмотра горизонта. – Что-то здесь не так. И даже если предположить, что пираты устроили налёт на Сан-Мигель, как это не раз бывало, то рыбаков это не касается, их пираты не трогают. Тем более мы у западной оконечности острова, до Понта-Делгады отсюда не близко. А больше лакомых кусков здесь для пиратов нет.
– Справа по борту парус, – прокричал вперёдсмотрящий с фор-марса (примечание 19).
– Где он? – Абрахам Ван-Вейден пошарил подзорной трубой. – А, вот.
В поле зрения подзорной трубы появились идущие круто к ветру, под всеми парусами, два корабля: фрегат (примечание 20) и шлюп (примечание 21). Причём, как следовало из флагов, фрегат был французским, а вот шлюп – английским, что было в высшей степени странным в том смысле, что политическая ситуация в Европе месячной давности никак не располагала к совместным действиям кораблей двух стран. А тут такое во всех отношениях странное дефилирование вместо того, чтобы вцепиться друг другу в глотку, но, похоже, с явным намерением удрать от чего-то. Во всяком случае, из результатов наблюдений за действиями обоих кораблей у Абрахама Ван-Вейдена сложилось именно такое впечатление. Но в этом случае возникал вполне закономерный вопрос: что могло так напугать как англичан, так и французов, что они пытаются сбежать, совместно забыв про какие-либо политические противоречия их стран? Если всё же пираты, то какими же силами они должны атаковать Понта-Делгаду, чтобы обратить в бегство два военных корабля? И если для шлюпа бой с пиратами один на один может представлять реальную опасность, то вот фрегат без особого труда в состоянии разобрать своей артиллерией на дрова все пиратские бригантины и шхуны.
– Герр Штерн, прикажете зарядить пушки? – наконец нарушил затянувшееся молчание капитан Олаф Ларсон.
– Нет, не надо. Только панику поднимем.
Исаак Штерн, не отрываясь от подзорной трубы, следил за приближающимися кораблями.
– Это явно не из-за пиратов. Ни на фрегате, ни на шлюпе боевых повреждений не видно, а без них не обошлось бы. Ни англичане, ни французы трусами никогда не были, чтобы просто сбежать, лишь только завидев противника. Тут что-то другое, но что?
Вопрос остался без ответа, но ненадолго. Взяв ещё более круто к ветру, благо косое парусное вооружение это позволяло, шлюп, приблизившись к «Аврааму», лёг на контркурс, а стоящий на квартердеке матрос заработал флагами, и всё стало ясно. Причём настолько ясно и однозначно, что у знакомого с флажковой азбукой Абрахама Ван-Вейдена буквально зашевелилась шляпа на голове, поскольку волосы под ней встали дыбом, ибо из сообщения, переданного английским матросом, следовало: В Понта-Делгаде чума!!!
– Господи, лучше бы пираты, – Абрахам Ван-Вейден проводил взглядом удаляющиеся фрегат и шлюп. – От пиратов хотя бы отбиться можно, а чума, чума – она…
Только и оставалось последовать примеру англичан и французов, ибо после такого известия ни о каком заходе в Понта-Делгаду для отдыха и пополнения запасов не могло быть и речи, себе дороже. И более того, на общем совете было принято решение идти сразу в Капштадт, не рискуя заходом вместо Азорских на лежащие по пути Канарские острова или острова Зелёного Мыса на случай, если чума добралась и туда, а по пути более детально обследовать остров Тристан-да-Кунья на предмет возможности создания там перевалочной базы для идущих в Австралию кораблей с будущими партиями переселенцев. Поскольку Капштадт при всей его привлекательности в виде наличия удобной бухты и хорошо отлаженной системы снабжения кораблей всё же принадлежит Голландии. А как отнесётся правительство Соединённых провинций (примечание 21) к факту объявления независимости колонии Израиль, одному Богу известно. Так что иметь неподконтрольную никому из европейских держав перевалочную базу на полпути из Европы выгодно во всех отношениях, вплоть до объявления над островом Тристан-да-Кунья суверенитета колонии Израиль.
– Будем иметь это в виду как возможный вариант на будущее, – подвёл итог совета Исаак Штерн. – Герр Ван-Вейден, прокладывайте курс до Тристан-да-Кунья, а по пути, если кого встретим, также предупредим о чуме на Азорах. Мы сегодня без малого по лезвию ножа прошли. Застань нас чума в порту на рейде – и всему делу конец. Возможно, вообще бы никто не выжил.
За остаток дня встретили ещё два корабля: испанский галеон и голландский флейт, (примечание 23), предупредив их экипажи о чуме на Азорах. А потом…
Это случилось перед самым заходом солнца, когда чуть в стороне от курса заметили очередной корабль и подвернули, чтобы предупредить команду не соваться на Азорские острова. Но по мере приближения стало ясно, что этот корабль, оказавшийся при ближайшем рассмотрении средних размеров бригом, ведёт себя как-то странно. Несмотря на поднятые паруса, он не шёл по курсу, а беспомощно дрейфовал, рыская то туда, то сюда под ударами ветра и волн при полном отсутствии людей на верхней палубе и надстройках.
– Корабль в дрейфе с неубранными парусами. Пустая палуба.
Абрахам Ван-Вейден почувствовал, как от возникающей в голове догадки его второй раз за день начала бить мелкая дрожь.
– Да этот бриг, он же…
– Чумной, – Исаак Штерн опустил подзорную трубу. – Команда – мертвецы. Упокой Господи их души. Герр Ларсон, готовьте пушки! Отправим заразу к Нептуну. Одного залпа «Авраама» хватит?
– Не уверен, герр Штерн, – капитан Олаф Ларсон оценивающе посмотрел на бриг-призрак. – Корабль довольно крупный.
– Тогда всей эскадрой. Пускай канониры потренируются.
А через несколько минут общий бортовой залп галеонов отправил чумной бриг в его последнее плавание на дно Атлантики, избавив тем самым мир от источника чёрной смерти (примечание 24), много столетий подряд терзавшей человечество и собиравшей с каждым своим приходом обильную жатву человеческих жизней.
Глава 5. Развлечения и приключения на острове Тристан-да-Кунья
– Если глубины позволят, высаживаться будем здесь, – резюмировал Исаак Штерн после осмотра берега в подзорную трубу. – Хотя рейд почти открытый, но по барометру шторма не предвидится, а главное – вода рядом, много, не какой-нибудь ручей, а почти река. Так что, герр Ларсон, спускайте шлюпки с лотом, будем надеяться, что нам повезёт.
Почти двухмесячный переход от Азорских островов до острова Тристан-да-Кунья наконец-то завершился, и теперь галеоны лежали в дрейфе примерно в полумиле (примечание 25) от северного берега этого необитаемого, затерянного в просторах южной Атлантики острова, случайно открытого в 1506 году португальским мореплавателем Тристаном да Кунья, назвавшим остров своим собственным именем.
Ближе полумили подойти не решились, ввиду полного незнания о наличии возможных навигационных опасностей вблизи берега, поскольку сам Тристан да Кунья, будучи первооткрывателем, на берег не высаживался, а лишь определил координаты открытого им острова, обозначив место того на карте, чем и ограничился. Упоминаний о более поздних, более детальных исследованиях острова при подготовке к экспедиции, несмотря на все усилия, обнаружить не удалось, из чего напрашивалось вполне закономерное предположение о том, что, возможно, этот лежащий в стороне от морских путей остров лишь второй раз за более чем полтора столетия, прошедшие с момента его открытия, предстал перед глазами европейцев, теперь с вожделением его рассматривающих с бортов всех четырёх галеонов. Три месяца в море – нелёгкое испытание даже для бывалого моряка, а чего уж говорить о пассажирах, впервые покинувших сушу и столь жестоко обманувшихся в своих надеждах на полноценный отдых на Азорских островах. Но приходилось ждать, ибо существовал вполне реальный шанс сесть при подходе к берегу на скрытую под водой мель или, хуже того, напороться на камни. А стало быть, до возвращения шлюпок с результатами промера глубин – вперёд к берегу ни на дюйм. Только и оставалось, что разглядывать остров издалека, невооружённым взглядом или в подзорную трубу. А посмотреть было на что. Обширное, поросшее густым ковром зелени, возвышающееся на несколько сотен футов над волнами океана плато со скалистыми, почти отвесными берегами, плавно переходящее во внушительных размеров гору со скошенной, дымящейся вершиной, покрытой ослепительно белыми, сияющими в лучах восходящего утреннего солнца ледниками. Типичный вулканический остров, в незапамятные времена поднявшийся из глубин океана и дающий теперь пристанище множеству морских птиц, гнездящихся на скалах береговых обрывов, и прочей морской живности, такой, как тюлени, облюбовавшие себе ту часть берега, где отвесные скалы плавно переходили в покрытый чёрным вулканическим песком пляж, возле которого сейчас и сновали шлюпки, проводящие промеры глубин.
– А мы здесь, похоже, далеко не первые за полтора века, – сделал вывод Абрахам Ван-Вейден, обратив внимание на то, как всполошились при приближении шлюпок греющиеся на солнце тюлени. В оптику подзорной трубы было прекрасно видно, что лежащее на берегу небольшое стадо не просто проявило беспокойство при появлении чего-то ранее им неизвестного, а все как один поднялись и бросились в воду.
– Вот оно как! – Исаак Штерн на минуту задумался. – В таком случае при обследовании острова следует обращать внимание на возможные следы присутствия человека. И ещё, – он обратился к стоящему рядом командиру морских пехотинцев Арону Ягеру, – герр Ягер, ночью выставите посты. Максимальная бдительность. Всех, включая группу, что будет обследовать остров, вооружить ружьями нового образца. Не исключено, что тут у пиратов база или склад награбленного. Уж больно место удобное. Конечно, вряд ли они сейчас здесь, но предосторожность лишней не будет. Тем более что мы уже далеко не в Европе, и прятать наши новинки больше нет смысла.
«Одну из новинок», – мысленно поправил главу экспедиции Абрахам Ван-Вейден. Потому как имеющиеся у них ружья нового образца, или ружья с ударным воспламенителем, действительно, на порядок превосходят всё более и более широко распространяющиеся по Европе ружья с кремнёвым замком. Во-первых, двуствольные, что даёт преимущество второго выстрела без перезарядки, а во-вторых, что самое главное, вместо кремня для поджигания пороха используется надетый на бранд-трубку (примечание 26) медный колпачок с особым веществом на донышке, воспламеняющимся при ударе по колпачку спущенного курка (примечание 27). Огромный шаг вперёд по сравнению с кремнёвым замком, в котором искру может запросто сдуть ветром, или, хуже того, затравочный порох на полке отсыреет, тогда уж совсем не выстрелишь. Да и вспышка перед глазами этого самого затравочного пороха на полке – тоже дело малоприятное, не говоря уже о том, что ночью она демаскирует стрелка. А здесь ничего этого нет. Заряжай и стреляй, если, конечно, знаешь, как вещество-воспламенитель сделать, состав и способ изготовления которого является строго охраняемой тайной, призванной дать преимущество колонистам в случае весьма вероятной войны за независимость колонии Израиль. Как и бранд-снаряды (примечание 28) для пушек, в немалом количестве хранящиеся в крюйт-камерах (примечание 29) всех четырёх галеонов и способные превратить в костёр любой оказавшийся в зоне их поражения корабль.
Причём действие этих самых бранд-снарядов Абрахаму Ван-Вейдену довелось наблюдать во время перехода из Роттердама в Гамбург, когда недалеко от входа в Ла-Манш их шхуну попытался атаковать пиратский шлюп, посчитав небольшое двухмачтовое судёнышко, вооружённое всего лишь несколькими вертлюжными пушками (примечание 30), сравнительно лёгкой добычей. И каково же было удивление уже готовых к абордажу пиратов, когда шхуна под флагом вольного города Гамбурга, вместо того, чтобы попытаться удрать или лечь в дрейф и сдаться на милость победителя, вдруг дала бортовой залп с дальней дистанции, но не обычными чугунными ядрами по корпусу или картечью по палубе, как это всегда бывало, а чем-то странным и непонятным, изрыгнув из стволов своих казавшихся ещё мгновение назад столь неопасных вертлюжных пушек сияющие ярче солнца огненные шары ослепительного белого пламени. Причём огонь вёлся с исключительной точностью, поскольку из трёх этих поистине дьявольских снарядов непосредственно в корпус шлюпа попало два. Третий же, пройдя с перелётом (может быть, оно так и было задумано), прежде чем бухнуться в воду, подпалил паруса, разверзнув над головами джентльменов, месье, а может быть, и сеньоров удачи – флаг пираты не удосужились поднять – настоящий огненный ад. Впрочем, по интенсивности горения многократно уступая тому аду, что разверзся на палубе пиратского корабля, ибо два оставшихся огненных снаряда, врезавшись в борта, почти мгновенно подожгли просмолённое дерево обшивки и палубного настила, испуская при этом такой невыносимый жар, что потушить их было совершенно невозможно, сколько ни лей воды. И как закономерный итог – паника среди команды и взрыв пороха в крюйт-камере.
– Вот и всё, господа. Были пираты – и нет, – подвёл итог скоротечного боя Исаак Штерн, оглядывая в подзорную трубу тлеющие на воде обломки. – И спасать некого, никто не выжил. Может, оно и к лучшему. Палачу работы поменьше, а нам не нужны свидетели. Курс прежний – Гамбург. А нас здесь нет и никогда не было.
– Что это за снаряды, герр Штерн? Греческий огонь? – только и смог выдавить из себя вопрос находящийся в состоянии глубокого шока от увиденного Абрахам Ван-Вейден.
– Скорее, индийский, хотя, возможно, древние греки тоже что-то подобное использовали. Но я этот рецепт у одного индуса купил. Дорого, правда, заплатить пришлось, – Исаак Штерн сделал паузу, ещё раз взглянув на уже оставшуюся далеко за кормой груду ещё недавно бывших пиратским кораблём обломков. – Но, как видите, себя оправдывает. И водой не потушить. Горит так, что железо плавится (примечание 31). Так что будь сегодня у пиратов нечто более серьёзное: бригантина, бриг, фрегат или даже линейный корабль – результат был бы тот же. Мы, герр Ван-Вейден, в случае войны за независимость будем как Давид и Голиаф. В бою на мечах или копьях у Давида против Голиафа не было шансов, и он, прекрасно это понимая, использовал пращу. Так вот и эти бранд-снаряды – тоже своего рода наша праща Давида, причём не единственная. Но об этом чуть позже, герр Ван-Вейден, а пока без лишней огласки, сами понимаете.
– Дядя Абрахам, а извержение будет? А то вон как вулкан дымит, – вопрос двенадцатилетнего Мордехая (или Морди по причине юного возраста) отвлёк Абрахама Ван-Вейдена от воспоминаний событий четырёхмесячной давности.
– Не знаю, сынок, но надеюсь, что нет. Это только в рассказах сеньора де Тореса извержение выглядит красиво, а на деле ничего хорошего. Один пепел чего стоит. Попали мы как-то раз с нашим капитаном герром Ларсоном под пеплопад возле Исландии. Полдня корабль отдраивать пришлось.
Да, сын, вернее, пасынок, поскольку чуть более чем месяц назад, в день, когда пересекали экватор, переходя из стран дневных в страны полуночные, на борту флагманского галеона «Авраам» по еврейскому обряду, по закону Моисея, состоялась свадьба старшего штурмана экспедиции Абрахама Ван-Вейдена и младшей дочери создателя морского хронометра часовщика Голдфингера Сары, лишь незадолго до отплытия, благодаря счастливой случайности (джунгли Амазонки умеют хранить свои тайны!) избавившейся от статуса соломенной вдовы, в котором она проходила более десяти лет. Их первое знакомство произошло ещё в Гамбурге, а потом… Жизнь в ограниченном пространстве корабля волей-неволей сближает людей. Тем более, когда женщина – картограф, ибо благодаря природному таланту к рисованию Сара прекрасно копировала карты. Так чего же ещё желать? Как закономерный итог, теперь в каюте Абрахама Ван-Вейдена стало чуть более тесно, но куда более весело.