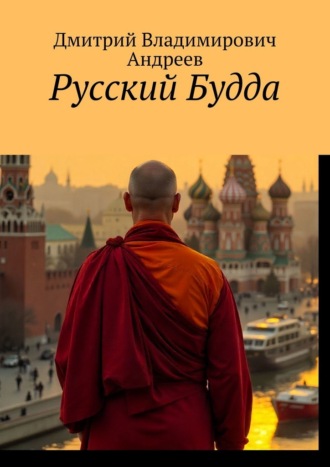
Полная версия
Русский Будда
Примечательно, что в документах XVIII века буддизм часто именуется «ламаистским законом» – термин, отражающий восприятие буддийской традиции как целостной религиозно-правовой системы, включающей не только ритуалы и догматы, но и нормы поведения, структуру духовной власти и систему образования. Это понимание сближало буддизм с Исламом, который также воспринимался как закон, а не просто как вера. Таким образом, буддизм в глазах Российских чиновников представлялся не экзотическим учением, а сложной и устойчивой духовной системой, способной выполнять функции социальной регуляции и культурной идентичности.
Учреждение института Хамбо-ламства имело далеко идущие последствия. Оно создало легальные условия для существования буддийских монастырей – дацанов, монашеской общины и образовательных центров, где передавались основы философии, ритуала и тибетской письменности. Вместе с тем, буддийское духовенство было включено в имперскую бюрократическую систему: назначение Хамбо-ламы утверждалось властями, а его деятельность подлежала регулярной отчётности. Исторические документы свидетельствуют, что первый официально признанный Хамбо-лама – Дамба-Даржа Заяев – должен был представлять отчёты в Иркутскую губернскую канцелярию, включая сведения о численности монахов, состоянии храмов, образовательной деятельности и соблюдении дисциплины.
Эта двойственность – признание автономии при одновременном включении в административную вертикаль – стала отличительной чертой Российского буддизма. С одной стороны, государство демонстрировало уважение к духовной традиции, позволяя ей развиваться в рамках собственной логики; с другой – стремилось контролировать её развитие, интегрируя буддийскую общину в общую систему управления. Такая модель, возникшая в XVIII веке, сохранялась и в последующие эпохи, включая имперский, советский и постсоветский периоды, и во многом определила специфику буддизма в России – как религии, существующей на пересечении духовной автономии и государственной регламентации.
Особого внимания заслуживает тот факт, что Российские власти предприняли беспрецедентный для XVIII века шаг – официально признали институт перерожденцев, известных в тибетской традиции как тулку. Это решение фактически означало санкционирование принципа реинкарнации на государственном уровне, что не имело аналогов в европейской политике того времени. В архивах сохранились документы, подтверждающие, что при назначении нового Пандито Хамбо-ламы учитывалась система перерождений, включая признание духовной преемственности, хотя окончательное решение оставалось за светской властью. Этот тонкий баланс между уважением к внутренним механизмам буддийской традиции и необходимостью государственного контроля стал характерной чертой Российской модели управления буддийскими сообществами. Он демонстрирует, насколько гибкой и адаптивной могла быть имперская политика в отношении религиозных институтов, особенно в тех случаях, когда они играли важную роль в стабилизации приграничных территорий.
Финансовые аспекты признания буддизма также заслуживают отдельного рассмотрения. В отличие от Православной церкви, буддийские монастыри не получали прямого государственного финансирования, однако им разрешалось иметь крепостных – так называемых сервитутов, что создавало экономическую основу для функционирования дацанов. Эта система позволяла монастырям обеспечивать себя за счёт труда зависимого населения, при этом оставаясь в рамках имперского законодательства. Российские власти тщательно регламентировали количество монахов, размеры монастырских земель и объёмы хозяйственной деятельности, стремясь не допустить чрезмерного усиления буддийского духовенства. Эти меры отражают характерную для Екатерининской эпохи политику «управляемой веротерпимости», при которой признание религиозных свобод сочеталось с их строгим регулированием в интересах государства. Буддизм, как и другие «инородческие» верования, воспринимался не только как духовная система, но и как элемент административного устройства, требующий постоянного надзора и корректировки.
Признание буддизма в 1764 году имело важные последствия не только для внутренней политики, но и для международного положения России. Этот шаг способствовал укреплению позиций империи в Центральной Азии, демонстрируя соседним буддийским народам – прежде всего монголам и тибетцам – лояльное отношение Российских властей к их традиционной религии. В условиях геополитической конкуренции с Китаем и интереса к тибетскому региону, буддийские монастыри Забайкалья стали не только религиозными центрами, но и важными узлами дипломатической и разведывательной активности. Через них осуществлялись миссии, направленные на сбор информации, установление контактов и продвижение интересов империи в азиатском пространстве. Таким образом, решение Екатерины II, формально касавшееся внутренней религиозной политики, приобрело стратегическое значение, расширяя сферу Российского влияния и укрепляя её позиции в регионе.
Этот исторический эпизод ярко иллюстрирует уникальность Российской модели интеграции буддизма, которая существенно отличалась как от полного неприятия буддийской традиции в большинстве европейских стран, так и от практики её поддержки в азиатских государствах, где буддизм был частью государственной идеологии. Российская империя сумела выработать особый путь – сочетание признания духовной автономии с включением буддийской иерархии в имперскую административную систему. Это решение не только обеспечило стабильность в восточных регионах, но и предопределило дальнейшую судьбу буддизма в России, сделав его частью сложной и многослойной религиозной карты страны. В этом контексте буддизм перестал быть исключительно этнической религией и начал восприниматься как элемент Российской духовной и культурной истории.
Буддийские народы России – калмыки, буряты и тувинцы – представляют собой уникальные этнокультурные общности, каждая из которых сохранила и развила буддийскую традицию в специфических исторических условиях, формируя тем самым многогранную и внутренне разнообразную картину Российского буддизма. Калмыки, потомки западно-монгольских ойратских племён, принесли буддийскую традицию школы Гелуг в прикаспийские степи в начале XVII века, совершив тем самым редкий исторический переход: став единственным буддийским народом Европы, они сумели сохранить свою религиозную идентичность, несмотря на многовековое окружение Христианских и Мусульманских народов. Особенностью калмыцкого буддизма стало его развитие в условиях кочевого образа жизни, что отразилось не только в архитектуре передвижных хурулов, но и в синтезе буддийских практик с древними степными обрядами и формами почитания. Исторические документы XVIII—XIX веков подтверждают, что калмыцкие ханы сознательно использовали буддизм как инструмент консолидации народа и легитимации своей власти, приглашая высоких лам из Тибета и Монголии, организуя перевод священных текстов на калмыцкий язык и поддерживая монастырские школы. Перевод и адаптация буддийских текстов – процесс, характерный для всей истории буддизма, – способствовали не только распространению учения, но и его постепенному изменению, что является естественным следствием культурной интеграции. Буддизм, как и любое живое учение, менялся, трансформировался и обогащался, сохраняя при этом свою философскую основу.
Бурятский буддизм, сложившийся в Забайкалье, представляет собой особый феномен, отличающийся как от монгольской, так и от тибетской традиции. Его формирование происходило в условиях постоянного взаимодействия с Русской администрацией, Православными миссионерами и образовательными учреждениями, что привело к появлению уникальных форм адаптации буддийского учения. Бурятские ламы, получившие образование в тибетских монастырях, создали собственную богословскую школу, наиболее ярко проявившуюся в деятельности выдающихся религиозных деятелей XIX века, таких как Агван Доржиев – дипломат, философ и один из первых бурятских лам, получивших признание в международном буддийском сообществе. Особенностью бурятского буддизма стало развитие сети дацанов, которые становились не только религиозными центрами, но и важными культурно-образовательными учреждениями. В них изучались буддийские тексты, тибетская медицина, астрономия, логика, поэтика и философия, что превращало дацаны в своеобразные академии восточной мысли. Российские власти, с одной стороны, контролировали деятельность бурятского духовенства через институт Хамбо-ламства, с другой – предоставляли определённую автономию, позволяя сохранить и развить глубокую учено-монашескую традицию, которая стала отличительной чертой бурятского буддизма.
Тувинский буддизм, официально утвердившийся в Туве в XVIII веке, представляет собой особый случай синтеза буддийской традиции с древними шаманистическими культами, сохранившимися в регионе с доисторических времён. В отличие от калмыков и бурятов, тувинцы в большей степени сохранили добуддийские верования, создав уникальную религиозную систему, в которой буддийские ламы и шаманы зачастую сосуществовали, обслуживая разные уровни духовных потребностей общества. Российские исследователи XIX века отмечали, что тувинский буддизм отличался меньшей формализацией, большей открытостью к народным традициям и гибкостью в ритуальной практике. Особую роль играло так называемое «белое духовенство» – женатые ламы, жившие среди кочевников, сочетавшие буддийскую практику с повседневными хозяйственными занятиями и выполнявшие функции духовных наставников, целителей и посредников между миром людей и миром духов. После вхождения Тувы в состав России в 1914 году тувинский буддизм начал активно взаимодействовать с бурятской и калмыцкой традициями, сохраняя при этом свою самобытность, выражающуюся в особом ритуальном языке, архитектуре храмов и системе передачи знаний.
Таким образом, буддийские народы России не только сохранили свои религиозные традиции, но и адаптировали их к условиям жизни в составе многонационального государства. Их духовная практика стала частью Российской культурной мозаики, обогащая её новыми смыслами, философскими концепциями и формами религиозного опыта. Калмыцкий, бурятский и тувинский буддизм – это не просто региональные вариации одного учения, а самостоятельные культурные явления, каждое из которых внесло свой вклад в развитие буддизма на Русской земле.
Сравнительный анализ положения буддийских народов в Российской империи показывает, что, несмотря на общую принадлежность к традиции школы Гелуг, каждый из этих народов выработал свою уникальную модель взаимоотношений с государством и окружающими культурами. Калмыки, оказавшись в европейской части России, выработали стратегию сохранения религиозной идентичности в условиях инорелигиозного окружения, где доминировали Православие и Ислам. Их буддизм развивался как форма культурной самоидентификации, позволяющая сохранить связь с историческим наследием ойратов и одновременно адаптироваться к требованиям имперской власти. Буряты, проживавшие в непосредственной близости к Русским поселениям, создали наиболее интеллектуализированную форму Российского буддизма, основанную на развитой монастырской системе, тесно связанной с образовательной и научной деятельностью. Их дацаны стали центрами философской мысли, медицинских знаний и астрономических наблюдений, что сближало бурятский буддизм с академической традицией. Тувинцы, позже других вошедшие в состав империи, сохранили наибольшую степень синкретизма между буддизмом и традиционными верованиями, создав религиозную систему, в которой шаманизм и буддизм не противопоставлялись, а сосуществовали, обслуживая разные аспекты духовной жизни.
Эти различия были обусловлены не только временем и обстоятельствами вхождения в Российскую империю, но и особенностями взаимодействия с местными Русскими властями, степенью влияния соседних буддийских регионов – прежде всего Монголии и Тибета – а также спецификой традиционной культуры каждого народа. Российская администрация, как показывают архивные документы, проводила дифференцированную политику по отношению к буддийским народам, учитывая их географическое положение, степень лояльности и особенности социальной организации. В отношении бурятского буддизма имперские власти делали акцент на контроле через институт Хамбо-ламства, стремясь создать централизованную систему управления духовенством. В Калмыцкой степи, напротив, больше внимания уделялось ограничению контактов с зарубежными буддийскими центрами, особенно с Тибетом, чтобы избежать политического влияния извне. В Туве долгое время сохранялась практика косвенного управления через местную знать, что позволяло сохранять стабильность без прямого вмешательства в религиозную жизнь. Эта гибкая политика, несмотря на её очевидный прагматизм, способствовала сохранению буддийской традиции среди народов России, создавая основу для её дальнейшего развития в советский и постсоветский периоды.
Особого внимания заслуживает роль буддийских народов в формировании Российской востоковедческой науки. Многие выдающиеся Российские востоковеды XIX века, такие как Осип Михайлович Ковалевский и Гомбожаб Цэбекович Цыбиков, начинали своё знакомство с буддизмом именно через общение с калмыцкими, бурятскими и тувинскими ламами. Эти духовные наставники выступали не только как информанты, но и как полноценные участники научного диалога, передавая знания о философии, ритуале, языке и истории буддизма. Благодаря этому взаимодействию возникла уникальная форма Российской буддологической традиции, сочетающая академическую строгость с глубоким уважением к живой духовной практике. Буддийские народы России стали важным связующим звеном между европейской научной мыслью и буддийской ученостью, способствуя формированию того феномена, который сегодня называют Русским буддизмом – не как этнической религии, а как культурного и философского явления.
Строительство дацанов и их взаимодействие с Православной традицией представляет собой одну из наиболее интересных страниц истории буддизма в Российской империи, раскрывающую сложную динамику межконфессиональных отношений на восточных окраинах государства. Первые буддийские монастыри на территории России начали появляться в XVII веке, но их масштабное строительство развернулось после официального признания буддизма Екатериной II в 1764 году, когда имперская администрация осознала необходимость создания упорядоченной инфраструктуры для буддийского культа.
Архитектура Российских дацанов отражала уникальный синтез тибетско-монгольских канонов и местных строительных традиций, при этом каждый регион выработал свои характерные особенности. В Забайкалье сложился особый стиль бурятских дацанов, сочетавший элементы тибетской храмовой архитектуры с Русскими строительными технологиями – использование дерева вместо камня, двускатные крыши вместо традиционных плоских, что было адаптацией к суровым климатическим условиям. Калмыцкие хурулы, напротив, сохраняли больше центральноазиатских черт, включая купольные формы и яркую декоративную роспись, хотя и здесь прослеживалось влияние Русской архитектуры, особенно в поздних постройках XIX века, таких как главный хурул в Элисте, возведённый с участием Российских инженеров и мастеров.
Эти архитектурные решения не только отражали эстетические предпочтения, но и символизировали стремление к гармонии между буддийской традицией и Российской культурной средой. Дацаны становились не просто местами молитвы, но и пространствами диалога, где встречались разные цивилизационные коды, формируя уникальную модель сосуществования, характерную для буддизма в Российской империи.
Процесс строительства дацанов в Российской империи строго регламентировался государственными структурами, отражая политику контролируемого и управляемого развития буддизма. Каждый новый монастырь должен был пройти сложную процедуру согласования, включавшую одобрение не только со стороны буддийской администрации – прежде всего Хамбо-ламы, – но и гражданских властей, включая губернатора, а в особо значимых случаях даже Святейший Синод. Архивные документы сохранили подробные описания этого процесса: от подачи прошения с указанием предполагаемого места строительства, количества лам, источников финансирования и предполагаемой архитектурной формы, до тщательной проверки благонадёжности строителей, оценки лояльности общины и последующего осмотра уже построенного храма государственными чиновниками. Особое внимание уделялось вопросу земельных наделов – Российское законодательство строго ограничивало размеры участков, отводимых под дацаны, что нередко становилось предметом споров между буддийскими общинами и местной администрацией. В некоторых случаях власти сами инициировали строительство дацанов в стратегически важных районах, рассматривая их не только как религиозные учреждения, но и как инструменты укрепления государственного влияния на окраинах империи, особенно вблизи границ с Монголией и Китаем.
Взаимодействие между буддийской и Православной традициями в России носило сложный и многослойный характер, отражая общую динамику межконфессиональных отношений в многонациональной империи. С одной стороны, Православные миссионеры, особенно в первой половине XIX века, вели активную проповедь среди буддийских народов, рассматривая это как часть своей духовной миссии. В их отчётах буддийские практики часто описывались как «суеверия» и «идолопоклонство», а ламы – как главные препятствия на пути Христианизации. Эти документы, сохранившиеся в архивах духовных ведомств, дают представление о напряжённости, сопровождавшей религиозную политику того времени. Однако к концу XIX века тон официальных отчётов заметно меняется: появляются признания глубины буддийской философии, уважения к монашеской дисциплине, интерес к буддийской этике и даже попытки диалога. Это отражает эволюцию взглядов Русской духовной элиты, которая всё чаще воспринимала буддизм не как угрозу, а как достойного собеседника в вопросах морали, воспитания и духовного поиска.
С другой стороны, буддийские ламы, особенно в Бурятии, вырабатывали различные стратегии взаимодействия с Православием. Некоторые из них вступали в открытую полемику, защищая право на духовную автономию, другие – адаптировали отдельные элементы Христианской традиции в буддийскую практику, стремясь к культурному синтезу. Интересным примером такого взаимодействия стало заимствование форм церковного пения в буддийские богослужения, а также использование иконописных техник в создании буддийских изображений – танка и настенных росписей. Эти элементы не были прямыми копиями, но демонстрировали стремление к эстетическому диалогу, к поиску выразительных форм, понятных и близких местному населению, воспитанному в православной визуальной культуре.
Особую страницу в истории межконфессиональных отношений составляет феномен «двоеверия», особенно распространённый среди бурят и тувинцев. В условиях давления со стороны миссионеров и административных структур, многие представители коренных народов формально принимали крещение, но продолжали тайно придерживаться буддийских верований, участвовать в дацанских ритуалах, хранить изображения Будды и соблюдать традиционные обряды. Это скрытое исповедание буддизма стало формой духовного сопротивления и одновременно свидетельством глубокой укоренённости буддийской традиции в народной культуре. Двоеверие не было просто компромиссом – оно стало особым способом существования веры в условиях религиозного давления, сохранившим буддизм как живую и действующую силу в жизни народа.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



