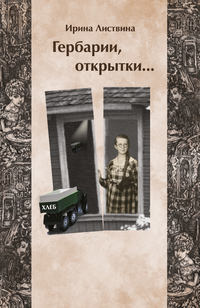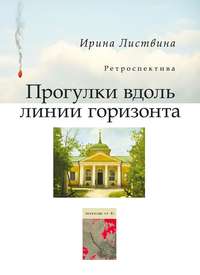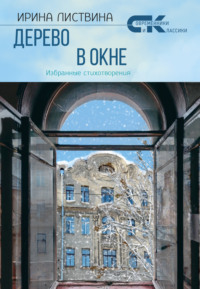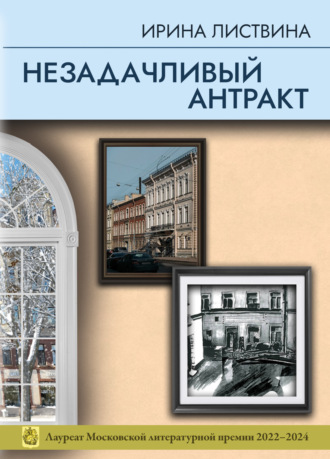
Полная версия
Незадачливый антракт
Теперь два слова о выборе иноязычных поэтов в Публичке. Верлен (эта всеобщая любовь русских лириков), конечно же, был выбран за музыкальность. Мелодия у него не царит, а живёт над строфами, то и дело не просто появляясь в тексте, но и являя себя – почти как в музыке. Американку Эмили Дикинсон я выбрала как поэта, замкнувшегося в мире особых пространства и времени, мире высокогорном и «существующем где-то над», хотя притом вполне реальном, во всяком случае, ничем реальности не противоречащем.
И наконец, Ти Эс Элиот… Пожалуй, с ним дело обстояло сложнее. Вначале он привлёк меня тем, что мыслил абстрактнее, шире и обобщённее многих современных (или XX века) поэтов. И ещё – поистине латинским лаконизмом. Институт ЛИТМО каким-то непонятным образом развил во мне склонность к абстрактному мышлению, без которой невозможно освоить целый ряд предметов, например теоретическую механику и высшую математику. Но если б дело было только в этом, Элиот вскоре бы мне наскучил, как это случилось (на несколько лет раньше) с Ломоносовым. Однако вскоре я поняла, что в Элиоте заключена энциклопедия западной поэзии XX века. И что он многое в ней издавна задал и определил, создав свою поэтику, как запустелый новый материк вроде Австралии, имеющий свой рельеф и вполне определённые, заданные границы. Кроме всего прочего, Ти Эс Эля нужно было разгадывать, в его текстах было немало пазлов, аккуратно, ловко и почти незаметно вписанных в текст (во всяком случае, не торчащих из него и не мешающих пониманию всего остального).
Ограничусь пока этими краткими и неглубокими характеристиками. Притом должна заметить, что эти спутники неприметно оказывали влияние на мои стихи, которые за эти два с половиной года (1971–1974) стали меняться. Кстати, и Верлена, и Ти Эс Элиота приметили тогда в Публичке многие, а не я одна. Вообще-то в Справочном зале, как правило, выдавали для чтения только книги, востребованные неоднократно. Эмили Дикинсон не была так популярна, поэтому я сочла её нежданным и личным подарком.
Утомившись от долгих разбирательств с агрегатами насосов и их деталями, я забиралась взглядом то в облака в окне, то в эти стихи. В них мне тоже следовало бы «вчитаться» серьёзнее, со словарём, но они были для души. Можно было иной раз читать их, просто скользя, а забираться вглубь – наугад и как придётся… Так почему-то проходила головная боль, и мысли оживлялись, и всё успевалось. Однако неожиданно выяснилось, что мои новые стихи нравятся немногочисленным поклонникам меньше прежних. Новый, усложнённый стиль не вызвал у них восторгов, а Ирина Чемоданова прямо сказала: «Ирка, ты начинаешь развиваться куда-то не туда. Тебя заносит!»
Лёши Хвостенко (с которым я давно не виделась) в городе не было, кажется, он уехал в Москву или его уже выслали как тунеядца. И показать эти стихи было просто и некому, кроме Тамары Юрьевны, которая, напротив, как-то больше заинтересовалась ими, чем прежними. Но поначалу тоже была недовольна, назвав сгоряча парниковыми: «Ирина, вам не кажется, что они эклектичны? Не знаю, можно ли так свободно смешивать ваш современный и постакмеистический стиль с сугубо западным». Я промолчала, избегая искреннего ответа, что только этот стиль кажется мне действительно современным. Что Т. С. Элиот и Эмили Дикинсон жили много лет тому назад, хотя у нас их «считают современными» – наверное, с лёгкой руки Иосифа Бродского или кого-нибудь ещё. Кстати, именно тогда у Т. Ю., возможно, и возникла мысль пристроить меня в семинар Э. Л. Линецкой.
Затем как-то раз, в магазине старой книги на углу Литейного и Жуковского нашлась для меня прелестная и недорогая книжечка стихов Бодлера на французском. Начав её листать, я удивилась лёгкости понимания и увлеклась. И вдруг перевела вечером дома два стихотворения. Точнее, они как-то «перевелись» сами; впрочем, это удивило меня не больше, чем появление моих стихов. И всё же я не поленилась справиться (всё там же, в Публичке) об имеющихся переводах, опасаясь, что кто-то перевёл их в точности так же, но раньше. Очень уж как-то легко получилось, а вдруг я просто вспомнила что-то? Но нет, оказалось, что их никто так не перевёл. Мои переводы Бодлера ничуть не привели меня в восторг, но всё же я показала их Тамаре Юрьевне, а та передала маститой переводчице Э. Л. Линецкой.
Следующая ступенька в семинар была примерно такой же, как у всех его участников: мне предложили разок побывать в секции переводчиков, которые показались мне строгими и важными профессорами-медиками филологии, выполнявшими некую серьёзную операцию (не хирургическую ли?) над текстами прозы. Надо признать, они делали это самозабвенно и ответственно. Естественно, никто из них не обратил на меня внимания (и слава Богу!). Но в перерыве Эльга Львовна (к которой я подошла, как было условлено) устало и небрежно спросила, какие языки я знаю. Спросила, не то чтобы сняв, а как бы откинув на миг с лица – вместо вуали – серо-белую «хирургическую маску», его обесцвечивающую. Я ответила, что не знаю испанского. Это прозвучало до нелепости самоуверенно, хотя я всего лишь вспомнила в тот миг, что она ведёт наполовину испанский, наполовину французский семинар. Она повторила свой вопрос – резко и устало. У меня отчего-то не хватило духа ответить, что я училась на французском отделении, это облегчило мою участь. Последовали простые вопросы о персонажах пьес Жана Расина. Я не очень жаловала его трагедии, но нас заставляли разбирать их, к тому же я любила древнегреческие мифы (и трагедии Эврипида в переводах И. Анненского). Лицо у Э. Л. было отсутствующее, она ещё обитала в полемике, мысленно продолжая и заканчивая разрезку и расчистку текстов.
Я её в тот раз как-то не увидела, не разглядела, хотя подумала, что облик у неё запоминающийся; и с почтением отошла. А недели через две мне позвонили из семинара, сообщив дату и время очередного занятия. При этом разбирать должны были не кого-то, а Бодлера, но заодно и меня. Я приготовилась к операции, было жаль моего Бодлера, сама же я надеялась как-то через это пройти. Но шла я на семинар без должного энтузиазма, даже «через не могу». Сам маршрут в Союз писателей (вплотную мимо Большого дома и Арсенала, который выглядел просто тяжеловесно-военным, но составлял с БД как бы нарочно подобранный ансамбль) вызывал у меня смутные и тягостные ассоциации.
Однако попала я не на операцию (и не на экзекуцию), нет… А куда же, собственно? Где это я вдруг оказалась? Нет, конечно, не на балу и не на премьере, но на действе, бывшем – при всей своей внешней скромности – чем-то им и сродни. Я увидела совершенно другую Эльгу Львовну, блистательную, даже немного бальную – в дорогом и простом английском сером костюме. Но так легко и строго выпрямленную, что казалась она высокой и стройной. А её серые с зелёными искорками глаза с крылатыми веками (хочется сказать веждами, вслед за кем-то из классиков) то говорили, то призывали к молчанию. Словом, она была балетмейстером и дирижёром, но также и хозяйкой – салона?! Нет, она просто и естественно царила в своём кругу… И она совершенно очаровала меня. Я смотрела на неё, не видя больше ничего и никого вокруг. В голове моей начинали складываться стихи «Лебединое озеро, не улетай» (они, впрочем, вышли так себе и едва ли здесь появятся).
А на остальных стоило посмотреть повнимательнее. Они знакомились, они были сдержанно, но явно приветливы. И почти каждый представлял собой нечто – эрудицию, остроту ли, весомость. В частности, переводчик эпиграмм Владимир Васильев, испанистка Алла (Александра) Марковна Косс, Майя (тогда ещё без отчества) Квятковская – да, пожалуй, почти все. Ведь это был период окончания первого, старшего семинара и начала второго, следующего (о чём я, разумеется, понятия не имела).
Радость же началась ещё на входе, хотя на семинар я умудрилась (как всегда) минут на семь опоздать. Я ещё не увидела как следует ни Эльгу Львовну, ни прекрасную гостиную – ровным счётом ничего. Но, входя осторожно и неохотно, я услышала стихи. Те самые, которые читала не так уж часто, но из месяца в месяц, из года в год в зале основного фонда Публички; хотя уж не помню, кого читали в тот раз – М. Кузмина, О. Мандельштама или В. Ходасевича. По традиции все семинары начинались с чтения стихов, так бывало каждый раз неизменно. Помню, как я изумилась тому, что в гостиной (скорее, как мне показалось, в небольшом зале) сидит не менее десяти человек, интересующихся тем же, что и я (и, кажется, способных слушать эти стихи часами). Нигде, даже в лито Глеба Семёнова (конечно же, нет!) жизнь ещё не представлялась мне с порога столь лучезарной.
Так прошла короткая вступительная, а за ней и первая часть – с беседой о Бодлере, его времени и с чтением известных переводов его стихов… А после перерыва был мой нелицеприятный разбор. Но досталось почему-то не мне, а моему Бодлеру, недаром мне заранее было его жаль. Текст был разобран по камушку… «Камня на камне» не то чтоб не осталось, но сохранилось в целости не очень много… А затем было сказано: «Но всё же это, по всей видимости, Бодлер» – из чего я и заключила, что досталось больше ему (моему, разумеется), чем мне самой. Перевод раскритиковали, меня же похвалили. Я ушла и опечаленной, и окрылённой, во мне зародились смутные надежды.
И только через год я поняла, что это было традиционное начало для тех, кто был принят Эльгой Львовной… Хотя принимала она далеко не всех желающих. Впрочем, упомянутое «действо» было на самом деле не менее серьёзно, чем в секции. Оно также требовало полной самоотдачи от всех участников. В секции разбиралась работа уже выполненная (так или иначе, но мастерски). И если сравнение с операционной хоть сколько-нибудь правомерно, там речь шла уже о хирургии пластической. При этом отнюдь не обходилось без полемики о лепке или выразительности черт воссозданного лица большого художника, не только заговорившего (снова или впервые) на русском, но и входившего в отечественную литературу торжественно, наподобие посла.
А на семинаре хирургия (кстати, безжалостная и не пластическая) играла пусть важную, но второстепенную роль. На первом же месте было выращивание[18] молодых переводчиков (это было как в саду из каких-то странных, большеруких и не слишком «уклюжих» растений). Несколько лет спустя я узнала, как любит Эльга Львовна лес и всё в нём: не просто деревья, траву и птиц, а весь лес с его тишиной, живностью, гущей и плавностью как таковыми.
На втором месте было совсем другое – то, что (не вдаваясь в объяснения) назову точно так же, как назвал одну свою миниатюру Мусоргский – «балет невылупившихся птенцов». Выяснялось при этом и «чьи вы, чьи вы?»[19], и кому какие достанутся ветки на деревьях-кустах, также вовсю шло обучение и воспитанье. При этом ещё важнее был (пожалуй, и не существующий в природе) «балет танцующих дерев». Но, однако, сами они – то ли саженцы, то ли чурбаны, а то и почти
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Закрытыми назывались предприятия военной промышленности, а остальные (как бы от противного) – открытыми.
2
На самом деле просто в редакции журнала
3
Лопушок – от «лопух», конечно.
4
Тогда проявляли фотографии, и они лежали какое-то время в фиксаже. Некоторые получались более чёткими, а иные – менее.
5
Первая – символизм, вторая – акмеизм.
6
Так называли его когда-то из-за названия статьи В. И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции».
7
Вместо «третья часть».
8
Это предложение – образец её прямой речи, дальше мой пересказ.
9
Такие романы есть, они сейчас в чести, пример – «Теофил Норт» Торнто-на Уайлдера.
10
Считая от Первой мировой.
11
Елизавета Дмитриева-Васильева была в начале XX века известна под псевдонимом Черубины де Габриак.
12
Разумеется, Максимилиан Волошин ни символистом, ни акмеистом не был, он стоял особняком. Но как явление он был родственен обоим течениям. Одно из лучших его стихотворений, «В дождь Париж расцветает, словно серая роза», – образец акмеистического импрессионизма.
13
Выражение «его (её) разговор» взято из Пушкина и из романов Л. Н. Толстого, это галлицизм, характерный для высшего общества.
14
Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Лёгкий стан, движений стройность, осторожный разговор…».
15
Герой одноимённой повести Н. С. Лескова.
16
Не исключено, что несколько статей о нём уже написано, хотя и по-другому, более академично.
17
Именно поэтому у меня и был «библиотечный день». На работе таких словарей не хватало; а когда я освоилась с терминологией (года через два с половиной), этот «день» исчез, осталась лишь привычка бывать в ГПБ.
18
Автор просит не удивляться тому, что слово «выращивание» встречается в повести-эссе часто.
19
Слова из известной тогда детской песенки.