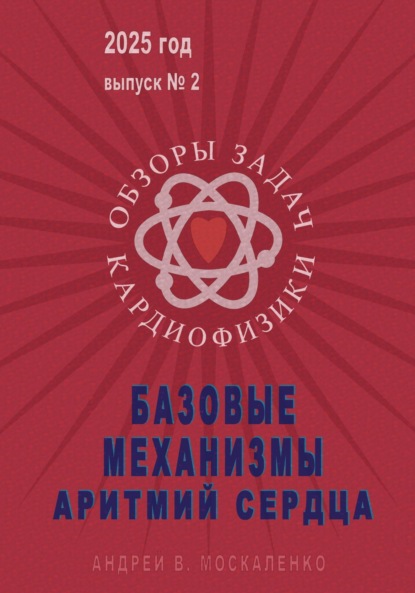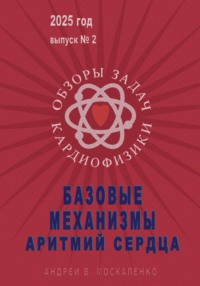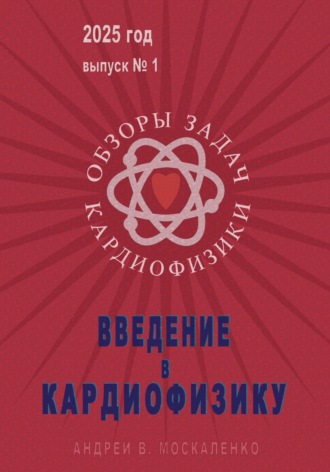
Полная версия
Введение в кардиофизику
Напомним вкратце, что изоморфизмом называют в математике ситуацию взаимно-однозначного соответствия между элементами некоторого одного множества и элементами некоторого другого множества, причём, конечно же, эти множества не совпадают по составу элементов. Поскольку множества составляются наблюдателем достаточно произвольным способом в соответствии с теми или иными намерениями наблюдателя, то легко можно заметить, что в общем случае в двух произвольно составленных множествах взаимно-однозначное совпадение окажется верным, то есть соответствующим объективной реальности, не для всех элементов, а, вероятно, лишь для элементов некоторых двух подмножеств каждого из множеств. Именно в этом смысле и следует введённое Шенноном понятие «количество информации» понимать как меру, оценивающую, какая часть двух произвольных множеств оказалась верно связанной взаимно-однозначным совпадением. Айзек Азимов в одном из своих произведений утверждал, что решение любой проблемы состоит всего лишь в переводе с языка задач на язык решений, то есть является по существу простым лингвистическим упражнением. И я считаю это утверждение всецело верным, потому как, по сути, и перевод с одного естественного языка на другой и перевод с языка задач на язык решений являются лишь вариантами отображения между двумя множествами объектов, – и такие переводы будут верными лишь в том случае, если возможно построить изоморфное отображения.
Например, из некоторого подмножества слов естественного языка составлена словесная модель (словесное описание) некоторого набора наблюдаемых событий (фактов), – что это значит? Открытие некой «истины»? Отнюдь. Это значит лишь, что удалось сформировать некоторое подмножество из фраз естественного языка, которое оказывается изоморфным некоторому подмножеству наблюдаемых событий, и притом факт изоморфизма подтверждается также и последующими наблюдениями того или иного события из того же самого подмножества событий. Всё. Для практического применения оказывается этого вполне достаточно. Как только появляются наблюдения, опровергающие гипотезу изоморфизма, словесная модель неизбежно перестраивается для устранения несоответствия. Естественный язык – это одна из возможных знаковых систем. Кроме естественного языка сформированы и иные знаковые системы; например, формальный язык математики. «Истиной» же в любом случае является только опытное подтверждения гипотезы изоморфизма между моделью, выстроенной в той или иной знаковой системе, и неким подмножеством наблюдаемых событий реального мира. Никакой иной «истины» не существует в принципе.
Именно в этом смысле на смену словесным моделям из языкового подмножества, сформированного в рамках физиологии, пришли словесные модели из языкового подмножества, сформированного биофизикой. А теперь настал черёд на смену моделям, созданным в рамках знаковой системы биофизической, разработать новые модели уже в рамках знаковой системы, создаваемой в кардиофизике. Просто потому, что прежние модели (как словесные, так и формальные) перестали соответствовать гипотезе об их изоморфизме наблюдаемым событиям, потому как подмножество наблюдаемых событий увеличилось, пополнившись новыми наблюдениями.
Например, в знаковой системе естественного языка мы привыкли говорить «снег падает» или «снег кружится», потому что множество наблюдаемых в быту событий, связанных с поведением снега, можно в практических целях считать изоморфным этим двум элементам знаковой системы естественного языка. Если же вдруг появятся наблюдения того, что снег стал как бы подпрыгивать и пританцовывать, то возникнет необходимость прежнюю словесную модель поведении снега либо дополнить, либо и вовсе заменить некоторой новой.
А для теоретической кардиологии такая необходимость уже возникла.
2. Историческая роль биофизического подхода
2.1. Полезность нового биофизического языка
К середине XX века накопилось довольно много наблюдений и результатов экспериментов, которые плохо укладывались в рамки ограничений, установленных физиологическим языком. Настало время для нового обобщения. Физикам и математикам удалось заметить, что процессы, которые происходят в «чисто физических» системах (например, в лазерах или даже просто в кипящей воде), по некоторым свойствам похожи на процессы, которые физиологи наблюдают в возбудимых биологических тканях. Постепенно появилось понимание того, что такие явления, как возбудимость, проводимость, ответ по типу «всё или ничего», рефрактерность и т. п., присущи не только исключительно биологическим объектам, но свойственны также и неживой природе. Обращаю внимание читателя, что речь в данном случае идёт не просто о каких-то аналогиях, а именно о новом обобщении накопленного научного знания. Это обобщение повлекло разработку нового, более универсального языка – языка биофизического. Новый язык позволил не только воспроизвести описание того, что уже было описано ранее в рамках физиологии, но и в единых терминах описать широкий круг экспериментального материала, с описанием которого язык физиологов уже плохо справлялся (смотрите примеры в разделах 1.3—1.5). Именно о таком новом расширенном биофизическом описании сердечной деятельности и пойдёт рассказ в этом разделе, а также более детально о том расскажем во втором выпуске ОЗК.
Чем полезен новый язык, сформированный в рамках биофизики? Прежде всего, это удобный язык для универсального описания некоторого круга явлений любой природы. Примеры такого описания были приведены в (2009, Елькин, Москаленко; 2014, Moskalenko). Однако, думаем, что биофизический язык окажется полезным и ещё найдёт своё применение в самых разных науках, в том числе и в таких «чисто гуманитарных», как психология и социология. Например, известно, что во время общения эмоциональное состояние передаётся от одного собеседника к другому, а значительные эмоциональные потрясения способны у отдельных людей вызвать устойчивые эмоциональные отклонения, которыми эти люди затем могут «заразить» окружающих, вызвав таким образом в социальной среде различные социальные волнения. Свидетелями таких социальных волнений стали в 1990-х годах жители бывшего СССР: вернувшиеся в то время участники «ограниченного контингента советских войск в Афганистане», потрясённые пережитыми военными событиями, невольно заразили своим эмоциональным состоянием значительную часть населения родной страны, в результате инициировав целый каскад драматических событий. Цепочка событий, произошедших на территории бывшего СССР в период от брежневской стабильности (состояние покоя) до наметившейся к концу первого десятилетия XXI века новой стабильности, очень похожа на автоволновой процесс возбуждения в многокомпонентной среде. Думаем, что исследователи XXI века, нацелившиеся на изучение истории распада СССР, найдут биофизический язык весьма полезным для описания результатов своего исследования. Подобные попытки описания социальных процессов предпринимаются в рамках социальной биофизики, и уже дали весьма интересные и неожиданные результаты.
Но вернёмся к сердцу… Можно найти немало примеров того, как биофизический язык прежние задачи, казавшиеся неразрешимыми, позволял переформулировать в таком виде, который делал решения этих задач практически очевидными (то есть был осуществлён перевод с физиологического языка задач на биофизический язык решений). Например, помог прийти к пониманию (1996, Мандела; 2010, Kurian, Efimov), что между фибрилляцией желудочков и рециркуляторной желудочковой тахикардией значительного различия, возможно, и нет.
Выявление же феномена «виртуального электрода» привело к пониманию того, что подавление аритмий возможно не только при помощи мощного разряда дефибриллятора, но и при помощи маломощной стимуляции, организованной в пространстве и времени определенным образом. Рассмотрим кратко основные современные концепции дефибрилляции, разрабатываемые в рамках биофизического подхода и теории автоволн. Теория дефибрилляции до сих пор остаётся предметом дискуссии и исследований и ещё не существует общепринятой точки зрения на механизмы возникновения аритмии в результате неудачной дефибрилляции. В качестве возможных причин неудачной дефибрилляции называют: 1) остаточную фибрилляторную активность в областях слабого градиента напряжения, 2) новые автоволновые вихри, порожденные электрическим разрядом, 3) фокальную эктопическую активность в областях миокарда, травмированных действием созданного дефибриллятором электрического тока. Теория виртуальных электродов (2002b, Ефимов и соавторы; 2002c, Ефимов и соавторы) помогла понять некоторые причины неудачного применения ранее использовавшихся протоколов дефибрилляции. Одним из наиболее важных практических выводов этой теории стала рекомендация при дефибрилляции использовать двухфазные стимулы, применение которых значительно повысило эффективность дефибрилляции. Новый взгляд на дефибрилляцию и развитие теории виртуальных электродов стали возможными лишь при использовании одной из новых биофизических моделей такой сложной автоволновой системы как миокард, получившей название «бидоменная модель» (2002a, Ефимов и соавторы). Использование этой модели помогло разработать новую концепцию дефибрилляции, принципиально отличную от предыдущих концепций. Более детально эти вопросы рассмотрены в разделе 5.10.
Приведём ещё один пример того, как использование фундаментальных биофизических законов привело к существенному углублению понимания хорошо известных явлений, для адекватного описания которых физиологического языка оказалось недостаточно. Одним из наиболее популярных и интригующих параметров, получаемых в результате обработки ЭКГ, является дисперсия QT-интервала, привлекающая к себе внимание кардиологов в последние два десятилетия XX века. Гипотеза о перспективности изучения пространственной вариабельности QT-интервала для поиска новых надёжных предикторов возникновения опасных желудочковых аритмий, как будто бы нашла своё более или менее убедительное подтверждение в многочисленных публикациях; подробнее смотрите ссылки в (2000, Баум и соавторы). «Здравый смысл», основанный на физиологических представлениях, тоже достаточно убедительно указывал на прогностическую значимость феномена «дисперсии QT-интервала»: нестабильность электрофизиологических процессов активации и восстановления миокарда должна непременно отражаться на поверхности торса в виде нестабильности паттернов реполяризационной части кардиоцикла. Однако аккуратное, с позиций биофизики, исследование возможных механизмов «дисперсии QT-интервала» привело к выводам, что длительности QT-интервала одинаковы в любых электрокардиографических отведениях, а феномен «дисперсии QT-интервала» является лишь ошибкой определения конца зубца T. Рассмотрение вопросов генеза QT-интервала и измерения его параметров (2000, Баум и соавторы) указало на необходимость разработки новых алгоритмов автоматического распознавания и измерения границ интервалов кардиоцикла, особенно конца зубца T. В свете проблем диагностики и предсказания возможного возникновения опасных нарушений сердечной деятельности, эти задачи требуют введения стандартов на измерительные алгоритмы, разработки рекомендаций к качеству исходных сигналов и к методам их обработки, а также проведения подробных исследований информативности параметров реполяризационной части кардиоцикла с помощью биофизических моделей генеза ЭКГ.
Итак, биофизический язык предлагает некоторые интегративные характеристики биологических объектов, и это как раз и придаёт ему дополнительную мощь. Физиологический язык стал к концу XX века языковым подмножеством биофизического языка, и это вполне естественный процесс в развитии познания.
Более детальное рассмотрение биофизического этапа изучения работы сердца, а также его преимуществ перед физиологическим подходом интересующийся читатель может найти в (2009, Елькин, Москаленко; 2014, Moskalenko; 2018, Москаленко и соавторы). Критические замечания в отношении биофизики сердца уже были прежде изложены в большой коллективной монографии (2021, Москаленко), поэтому основные принципиальные недостатки подхода к изучению биологических объектов, сложившегося в рамках биофизики, в трёх следующих разделах изложены лишь кратко.
2.2. Вред от биофизического редукционизма
В более ранних работах по биофизике – например, в (1978, Губанов, Утепбергенов), с отдельной главой, посвящённой «биофизике кровообращения» – хорошо заметна ориентированность на системный подход и на достижения кибернетики. К сожалению, к концу XX века некоторые исторические особенности развития биофизики привели к тому, что основное внимание стало уделяться молекулярным и клеточным механизмам в ущерб системному рассмотрению целостного организма – восторжествовал редукционизм (механистический подход). Проникновение редукционизма в науки о живой материи проявилось в упрощённом моделировании сложных биологических систем, то есть в игнорировании существенных свойств таких систем, а также в игнорировании многомасштабной причинности наблюдаемых в таких системах событий. Более детально о противостоянии редукционизма и холизма можно посмотреть в (2018, Москаленко и соавторы).
Вред редукционизма можно продемонстрировать на примере биофизических исследований, нацеленных на научное обоснование фармакологического лечения аритмий сердца при помощи антиаритмиков класса I. Результаты таких исследований отражены, например, в (1981, Перцов и соавторы; 1995, Efimov) и др.
Однако теперь уже широко известны результаты многоцентровых исследований 1990-х годов CAST, CASCADE и ESVEM (ссылки на эти исследования можно найти, например, в (2009, Елькин, Москаленко)). В ходе этих исследований было выявлено, что, несмотря на выраженное снижение частоты возникновения желудочковых экстрасистол, лечение антиаритмическими препаратами класса I не только не уменьшает, но даже увеличивает смертность, обусловленную аритмиями; успех противоаритмической фармакотерапии достигается не более чем у 60% всех больных с желудочковой тахикардией сердца при использовании медикаментозных антиаритмических средств всех классов и их комбинаций. Известный российский кардиолог, проанализировав результаты указанных многоцентровых исследований, пришёл к выводу, что лечение назначается практически случайным образом; своё впечатление он выразил следующими словами (2000, Голицын): «Потенциально любой из известных антиаритмических препаратов может: а) обеспечить антиаритмический эффект; б) не обеспечить его; в) проявить аритмогенное действие. И все это индивидуально непредсказуемо. Поэтому для больных со злокачественными желудочковыми аритмиями выбор не только эффективной, но и безопасной терапии требует проведения фармакологических проб». Американский кардиолог высказался о применении блокаторов натриевых каналов тоже достаточно категорично (2014, Aronow; перевод с англ. мой – АВМ): «Несмотря на адекватное подавление желудочковых аритмий, при 10-месячном наблюдении было выявлено, что энцинид и флекаинид значительно увеличивали смертность от аритмии или остановки сердца в 3,6 раза и значительно увеличивали общую смертность в 2,5 раза. (…) Уровень смертности пациентов, получавших антиаритмические препараты класса I, оказался на 14% выше, чем пациентов, не получавших антиаритмические препараты вовсе. Ни одно из 59 исследований не продемонстрировало, что применение антиаритмического препарата класса I снижает смертность у постинфарктных пациентов. Эти данные создают основания утверждать, что не следует применять антиаритмические препараты класса I для лечения желудочковых тахикардий или сложных желудочковых аритмий».
Каковы могут быть причины неудачного фармакологического лечения аритмий сердца? Таких причин возможно указать несколько (2016a, Москаленко). Так, анализ параметрического пространства уже простейшей концептуальной модели ФитцХью—Нагумо (1) даёт наглядное объяснение, почему блокаторы натриевых каналов вредны, а мономорфные желудочковые тахикардии могут быть вовсе и не столь уж безопасными, как принято считать, а скорее соответствуют предлетальному состоянию, – что было подробно пояснено в (2009, Елькин, Москаленко; 2009, Moskalenko; 2012, Moskalenko).
Ещё одна причина, почему лекарственные препараты, демонстрирующие выраженные антиаритмические свойства при воздействии на одиночные кардиомиоциты, увеличивают в 2–3 раза частоту внезапной аритмической смерти в сравнении с нелеченными пациентами, описана в (2002, Starmer). На первый взгляд, действительно кажется парадоксальным то, что одно и тоже свойство лекарственного препарата имеет антиаритмический эффект на изолированною клетку и проаритмический эффект на многоклеточный препарат (целое сердце). В ходе вычислительных экспериментов однако было обнаружено, что блокаторы натриевых каналов способны значительно увеличить так называемый уязвимый период, что происходит как по причине уменьшения скорости проведения волны возбуждения, так и по причине уменьшения градиента возбудимости.
В качестве третьей причины можно предположить побочное действие блокаторов мембранных каналов на иные органы и системы, – в том числе и на нервную систему, – в результате чего адаптационные реакции целостного организма, стремясь компенсировать действие лекарств, начинают конфликтовать с прямым действием лекарства, что и приводит к печальным последствиям.
Любая из указанных трёх причин уже является достаточной для увеличения смертности.
Ещё один пример того, как результаты, полученные в упрощённых биофизических моделях, существенно расходятся с результатами использования более сложных моделей, связан с проблемой формирования общего ритма в пейсмейкере (синусовом узле). Некоторые классические результаты теории автоволновых процессов, согласно которым в системе автоколебательных элементов якобы всегда должен устанавливаться ритм самого высокочастотного элемента системы, оспариваются в работе (2009, Мазуров), в которой показано, что ритм единый пейсмейкера формируется более сложным образом.
Эти и многие другие аналогичные примеры подготовили почву для вывода о том, что назрела необходимость смены кардиологической парадигмы (2014, Moskalenko).
2.3. Математические аспекты недостатков биофизики
Биофизический редукционизм проявляется, в частности, в отсутствии понимания концепции «грубость системы», которая в классической теории колебаний известна издавна (1937, Андронов, Понтрягиным). Сущность её состоит в запрете редукции системы уравнений в тех случаях, когда нарушено условие грубости системы. В классическом труде (1981, Андронов и соавторы, с. 18–19) предложена следующая интерпретация понятия «грубые системы»: «процессы, отображаемые математической динамической моделью и соответствующие процессам реальным», должны быть «устойчивыми как по отношению к малым изменениям переменных состояния и их первых производных, так и по отношению к малым изменениям самой математической модели. Первое приводит к понятию устойчивости состояний равновесия модели и процессов в ней, второе – к понятию грубости динамических систем». Этими двумя требованиями были достаточно строго очерчены пределы, в которых сохраняется научная обоснованность использования динамических систем для описания систем реальных. Само условие грубости сводится к требованию сохранения топологической эквивалентности фазовых пространств исходной системы и системы редуцированной (то есть при внесении малых изменений в систему). При нарушении условия грубости топологическая эквивалентность отсутствует, – что обычно указывает также и на недопустимость проведения редукции системы, а игнорирование этого обстоятельства часто приводит к логическим ошибкам в научных выводах – отождествление суждения, истинного при некоторых ограничивающих условиях («истинного относительно»), с таким же по содержанию суждением, но рассматриваемым безотносительно к этим условиям («истинного безотносительно»).
Ещё одним источником ошибок в редуцированных биофизических моделях и в проводимых с их использованием биофизических исследованиях может оказываться игнорирование того математического факта, что теорема о существовании и единственности решения для нелинейных систем уравнений более двух носит обычно лишь локальный характер; например, смотрите (2002
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.