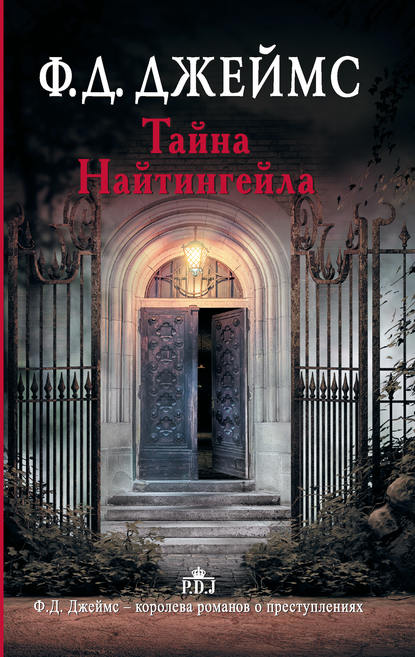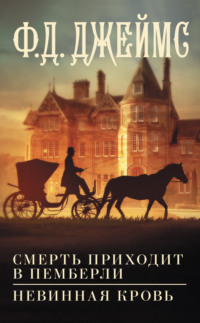Полная версия
Ухищрения и вожделения
– А разве главный инспектор Рикардс не просил вас сохранить эти сведения в тайне?
Воцарилось смущенное молчание. Дэлглиш подумал: «Они забыли на какое-то время, что я тоже полицейский». Лессингэм повернулся к нему:
– Я и собираюсь держать все это в тайне. Рикардс не хотел, чтобы эти сведения широко распространялись, и так оно и будет. Никто из здесь присутствующих не собирается их распространять.
Но этот единственный вопрос, напомнивший всем, кто такой Дэлглиш и кого он представляет, словно заморозил атмосферу. Настроение изменилось. Завороженный, хоть и полный ужаса интерес сменился чувством неловкости, почти стыда. И когда через минуту Адам поднялся, чтобы попрощаться и поблагодарить хозяйку, всеобщее облегчение было таким явным, что его нельзя было не заметить. Он прекрасно понимал, что их смущение вызвано вовсе не боязнью, что он станет что-то у них выспрашивать, критиковать их, шпионить за ними. Дело Свистуна было вне его юрисдикции, а они не были подозреваемыми. Кроме того, они наверняка знали, что он вовсе не из этаких веселеньких экстравертов[25], обожающих находиться в центре внимания и отвечать на град вопросов о том, каковы методы расследования, к которым может прибегнуть главный инспектор Рикардс, велики ли шансы поймать Свистуна, каковы его собственные взгляды на убийц-психопатов и большой ли у него опыт по поимке серийных убийц. Но само его присутствие меж ними усиливало страх и отвращение, вызванные рассказом о только что испытанном ужасе. В воображении каждого запечатлелось это искалеченное, искаженное лицо, полураскрытый рот, забитый пучками волос, раскрытые, глядящие в никуда глаза… Присутствие Дэлглиша делало картину более яркой, фокусировало на ней внимание. Ужас и смерть – с ними было связано его ремесло, и, словно похоронных дел мастер, он всюду нес с собой грозную ауру своей профессии.
Он уже подошел к выходу, когда, повинуясь неожиданному импульсу, обернулся и сказал Мэг Деннисон:
– Кажется, вы говорили, что ходите пешком от старого пасторского дома, миссис Деннисон. Можно, я провожу вас? То есть, разумеется, если я не вынуждаю вас уйти слишком рано?
Алекс Мэар запротестовал было, что он, разумеется, отвезет Мэг сам, но она, заторопившись, неловко выбралась из кресла и сказала, чуть слишком поспешно:
– Я была бы очень вам признательна. Я с удовольствием пройдусь пешком, а Алексу не придется выводить из гаража машину.
– И пора Терезе отправляться домой. Мы должны были отвезти ее в Скаддерс-коттедж час тому назад. Надо позвонить ее отцу. А она-то где, между прочим? – спросила Элис Мэар.
Мэг ответила:
– Кажется, она была в соседней комнате с минуту назад. Убирала со стола.
– Пойду отыщу ее, и Алекс отвезет девочку домой.
Гости стали прощаться. Хилари Робартс, свободно откинувшаяся в кресле и не спускавшая глаз с Лессингэма, поднялась на ноги и произнесла:
– Я иду домой. Нет необходимости меня провожать. Как сказал Майлз, сегодня ночью Свистун уже получил желаемое.
Алекс Мэар возразил ей:
– Я бы предпочел, чтобы вы подождали. Я провожу вас, как только отвезу Терезу домой.
Хилари пожала плечами и ответила:
– Хорошо. Если вы настаиваете, я подожду.
Она отошла к окну и встала там, вглядываясь во тьму. Только Лессингэм остался сидеть. Он снова потянулся к бутылке и наполнил бокал. Дэлглиш заметил, что Алекс молча поставил на каминную плиту еще одну открытую бутылку, и подумал: может быть, Элис Мэар пригласит Майлза заночевать в «Обители мученицы»? Не то Алексу или ей самой придется довезти его до дому. Сам Майлз будет не в состоянии вести машину.
Дэлглиш помогал Мэг Деннисон надеть жакет, когда зазвонил телефон. Звонок прозвучал неестественно громко в тихой теперь комнате. Адам почувствовал, как вздрогнула Мэг, и его руки невольно крепче сжали ее плечи. Было слышно, как Алекс Мэар отвечает кому-то:
– Да, мы уже знаем. Майлз Лессингэм здесь, с нами. Он рассказал нам все, во всех подробностях. – Последовала долгая пауза, затем голос Алекса раздался снова: – Совершенно случайно, не правда ли? В конце концов, на станции работают пятьсот тридцать человек. Но разумеется, все в Ларксокене будут глубоко потрясены, особенно женщины. Да, я буду завтра у себя в кабинете, если вам понадобится моя помощь. Ее семье сообщат, я надеюсь? Да-да, конечно. Спокойной ночи, главный инспектор. – Мэар положил трубку и сказал: – Это главный инспектор Рикардс. Они опознали жертву. Кристин Болдуин. Она – машинистка… Была машинисткой на нашей АЭС. Значит, вы ее не узнали, Майлз?
Лессингэм ответил не сразу: он наливал вино в бокал.
– В полиции мне не сказали, кто она. Да если бы и сказали, я не запомнил бы фамилии. И разумеется, Алекс, я ее не узнал. Наверное, я встречал Кристин Болдуин на станции, может – в столовой. Но то, что я видел сегодня вечером, не было Кристин Болдуин. И я могу вас заверить, что светил фонариком ровно столько, сколько было необходимо, чтобы убедиться, что я здесь уже ничем помочь не смогу.
По-прежнему стоя у окна, не оборачиваясь, Хилари Робартс произнесла:
– Кристин Болдуин, возраст – тридцать два года. Работала у нас одиннадцать месяцев. В прошлом году вышла замуж. Только что переведена в отдел медико-физических исследований. Могу сообщить вам, сколько знаков в минуту она делает на машинке и с какой скоростью стенографирует. Если это вам интересно.
Потом она повернулась и посмотрела Алексу Мэару прямо в глаза.
– Вам не кажется, что Свистун подбирается все ближе и ближе? И не только в прямом смысле слова?
Глава 3
Наконец все прощальные слова были сказаны, и они вышли на свежий, напоенный ароматами моря воздух. Комната, где пахло дымком горящих в камине поленьев, где застоялся запах еды и вина, к этому моменту уже казалась Дэлглишу неприятно теплой и душной. Через несколько минут глаза его приспособились к полутьме, и широкое пространство мыса простерлось перед его взором, завораживая таинственно изменившимися в свете высоких звезд очертаниями и формами. На севере незнакомой галактикой сияли ярко-белые огни АЭС, ее геометрически правильный абрис исчез, поглощенный иссиня-черной глубиной неба.
Они постояли молча, глядя на эти огни. Потом Мэг Деннисон сказала:
– Когда я впервые приехала сюда из Лондона, станция прямо-таки пугала меня своими огромными размерами, тем, как она буквально простирает свою власть над мысом. Но я привыкаю постепенно. Она пока еще немного тревожит меня, но в ней все же есть какое-то величие. Алекс очень старается демифологизировать станцию, постоянно повторяет, что ее функция – всего лишь производить электроэнергию для единой энергосистемы страны и делать это как можно чище и эффективнее. И еще – что главное отличие АЭС от других электростанций в том, что рядом с ней вы не обнаружите огромной кучи загрязняющих все вокруг угольных отходов. Но теперь она еще означает – Чернобыль. Однако, если бы на ее месте стоял столь же огромный старинный замок, вырисовываясь на фоне неба, если бы по утрам мы видели высокие стены и ряд башен, мы скорее всего сказали бы, что это великолепно.
– Ну, если бы там был ряд башен, силуэт был бы несколько иной, – возразил Дэлглиш. – Но я хорошо вас понимаю. Я предпочел бы пейзаж без этого монолита, но постепенно все это начинает выглядеть так, будто АЭС здесь стоит по праву.
Не сговариваясь, они одновременно отвернулись от сверкающих огней и посмотрели на юг, на разрушающийся символ совершенно иной власти. Перед ними, на самом краю утеса, осыпаясь, словно размываемый прибоем детский песочный замок, рисовались на фоне неба руины бенедиктинского аббатства. Дэлглиш мог разглядеть лишь высокую зияющую арку восточного окна, а за ней – мерцание Северного моря. Над морем, видимый сквозь арку и чуть выше ее, повис, словно кадило, мутно-желтый диск луны. Едва ли сознавая, что делают, они сошли с дороги и прошли несколько шагов по неровной, кочковатой земле в сторону аббатства. Дэлглиш спросил:
– Пойдем? У вас еще есть время? А туфли? Вам не трудно будет идти?
– Туфли довольно удобные. Я с удовольствием пойду с вами: ночью аббатство выглядит замечательно. Да и торопиться мне на самом деле нет нужды. Миссис и мистер Копли не станут меня дожидаться. Завтра, когда мне придется рассказать им, как близко отсюда бродит Свистун, я вряд ли смогу оставлять их одних по вечерам. Так что сегодня скорее всего мой последний свободный вечер. И наверное, надолго.
– Не думаю, что им может грозить сколько-нибудь реальная опасность, если как следует запирать двери. До сих пор его жертвами были молодые женщины, и убивает он их на улице.
– Именно это я и говорю себе. Да я и не думаю, что они так уж страшно испугаются. Знаете, очень пожилые люди иногда оказываются вроде бы за порогом такого страха. Каждодневные мелкие огорчения и заботы приобретают для них невероятную важность, в то время как страшные трагедии они принимают походя. Но их дочь каждый день звонит и уговаривает их переехать к ней в Уилтшир, пожить там, пока его не поймают. Им не хочется, но она – волевая женщина и очень настойчива. Если она позвонит вечером, когда уже стемнеет, и обнаружит, что меня нет дома, у нее будет лишний повод нажать на стариков. – Мэг помолчала, потом сказала: – Как ужасно закончился этот званый обед! Элис собрала очень интересную, хоть и несколько странную компанию. Я бы предпочла, чтобы мистер Лессингэм не упоминал о некоторых деталях, но ему ведь нужно было выговориться. Видно, так ему легче, тем более что он живет один.
– Нужна была бы нечеловеческая выдержка, чтобы хранить все это, – заметил Дэлглиш. – Но я тоже предпочел бы, чтобы он опустил наиболее непристойные детали.
– Это имеет немалое значение и для Алекса. Некоторые из женщин, работающих на станции, и так уже требуют, чтобы их провожали домой после вечерней смены. Элис говорит, Алексу это не так-то легко будет организовать. Ведь они согласятся, чтобы их провожал мужчина, только если у него имеется прочное алиби хотя бы для одного из убийств, совершенных Свистуном. Люди теряют способность рассуждать разумно, даже если они проработали с человеком лет десять и знают его как облупленного.
– Да, убийство, особенно такое, убивает и способность рассуждать разумно, – согласился Дэлглиш. – Майлз Лессингэм упомянул еще одну смерть – смерть Тоби. Это тот молодой человек, который покончил с собой на станции? Я припоминаю, в одной из газет, кажется, была заметка об этом.
– Это была страшная трагедия. Тоби Гледхилл был у Алекса одним из самых блестящих молодых ученых. Он сломал себе шею, бросившись вниз, прямо на реактор.
– Так что ничего таинственного здесь не было?
– Нет, абсолютно ничего таинственного. Кроме того, почему он это сделал. Мистер Лессингэм видел, как это произошло. Удивительно, что вы это запомнили, ведь газеты почти ничего о нем не писали. Алекс постарался свести газетные публикации к минимуму, чтобы оберечь родителей Тоби.
И электростанцию, разумеется, тоже, подумал Дэлглиш. Интересно, почему Лессингэм говорил об этой смерти так, словно это тоже было убийство? Но расспрашивать дальше не стал. Слова Лессингэма были произнесены так тихо, что Мэг вполне могла их и не расслышать. Вместо этого он спросил:
– Вы счастливы, живя здесь, на мысу?
Вопрос, казалось, не вызвал у нее удивления, зато крайне удивил самого Адама, как, кстати, и то, что они так запросто, по-дружески шли теперь вместе. Как странно, что ему с ней так легко и покойно. Ему нравилась ее спокойная мягкость, за которой ощущалась недюжинная сила характера. У нее был приятный голос, а он придавал такое значение голосам… Однако всего полгода назад этого было бы недостаточно, чтобы он выдержал ее общество чуть долее, чем того требовали правила хорошего тона. Он просто проводил бы ее до старого пасторского дома, а затем, выполнив эту нетрудную обязанность и с облегчением вздохнув, один направился бы к руинам аббатства, кутаясь в привычное одиночество, словно в плащ. Одиночество по-прежнему было ему необходимо. Он не мог бы вытерпеть и суток, если бы большую часть из этих двадцати четырех часов не провел совершенно один. Но что-то в нем изменилось. Возможно, возраст, успех, возрождение стихотворного дара, а может быть, и только начинавшая зарождаться любовь делали его более общительным. И он вовсе не был уверен, следует ему радоваться или противиться этому.
Он чувствовал: Мэг всерьез обдумывает ответ на его вопрос.
– Да, кажется, я здесь счастлива. Иногда – очень. Я приехала сюда, пытаясь сбежать от проблем, с которыми столкнулась в Лондоне. И, хоть и не имела этого в виду, забралась от Лондона как можно дальше на восток.
– И обнаружили здесь для себя новые проблемы, новые опасности: АЭС и Свистун – две разные формы угрозы.
– Эти опасности страшны своей таинственностью, пугают ужасом неизведанного. Но здесь нет прямого адресата: ни та, ни другая не угрожают мне и только мне лично. Но я сбежала, а всем беглецам, видимо, свойственно нести, пусть и не очень тяжкое, бремя вины. И я очень скучаю о детях. Может, надо было остаться и продолжать борьбу. Но борьба превратилась в самую настоящую войну, попала в газеты. А я не приспособлена для роли главного персонажа самых реакционных газет. Мне хотелось всего-навсего чтобы меня оставили в покое и дали заниматься своим делом, которому меня учили и которое я так люблю. Но каждый учебник, каждая книга, которые я использовала, каждое мое слово подвергались тщательнейшей проверке. Нельзя учить детей в атмосфере злобной подозрительности. А потом я поняла, что и жить в такой атмосфере невозможно.
Мэг считала само собой разумеющимся, что он знал, кто она такая. Да и в самом деле все, кто читал газеты, не могли этого не знать.
Адам ответил:
– Можно бороться с невежеством, глупостью и фанатизмом, когда они выступают по отдельности. Когда они объединяются, разумнее всего, может быть, отойти в сторону, хотя бы для того, чтобы не сойти с ума.
Теперь они совсем близко подошли к аббатству, и заросшая грубой травой земля все резче бугрилась под их ногами. Мэг споткнулась, и Дэлглиш протянул руку, чтобы ее поддержать. Мэг сказала:
– Под конец дело свелось к двум письмам. В одном они требовали, чтобы «черная доска» называлась «меловая доска». Не черная. Меловая. Я не поверила собственным глазам. Я до сих пор не верю, что разумный человек, какого бы цвета кожи он ни был, может возражать против словосочетания «черная доска». Она же доска, и она – черная! Прилагательное «черный» само по себе не может быть оскорбительным. Всю свою жизнь я называла классную доску черной. С какой стати они пытаются заставить меня иначе говорить на моем родном языке? Но знаете, сейчас здесь, на мысу, под этим небом, перед этим величием, все это кажется ничтожным и мелким. Может быть, все, чего мне удалось добиться, это возвести пустяки в принцип.
Дэлглиш заметил:
– Агнес Поули поняла бы вас. Моя тетушка разыскала протоколы. Рассказывала мне о ней. Она явно отправилась на костер из-за того, что упрямо держалась собственного представления о вселенной и не собиралась его менять. Не могла согласиться с тем, что тело Христово присутствует в святых дарах, одновременно находясь на небесах. Это противоречит здравому смыслу, утверждала она. Может, Алексу стоило бы взять великомученицу Агнес в покровители его АЭС: ведь она – квазисвятое воплощение рационализма.
– Но это совсем другое. Она верила, что ее бессмертная душа в опасности.
– Кто знает, во что она на самом деле верила? – откликнулся Дэлглиш. – Мне думается, она могла поступить так из упрямства. Просто божественного упрямства! Это меня даже восхищает.
– Я думаю, мистер Копли возразил бы, что она была не права, и не из-за упрямства, но из-за чисто земного взгляда на причастие, – сказала Мэг. – Я недостаточно знаю, чтобы спорить о таких вещах. Но умереть такой ужасной смертью за собственное продиктованное здравым смыслом представление о вселенной… Пожалуй, это замечательно. Когда я прихожу к Элис, я всегда прежде всего читаю надпись на плите у двери. Как бы отдаю дань… Но я не чувствую ее присутствия в «Обители мученицы». А вы?
– Ни на йоту. Подозреваю, что центральное отопление и мебель в стиле модерн привидениям противопоказаны. А вы раньше знали Элис Мэар? До того, как сюда приехали?
– Я никого здесь не знала. Я ответила на объявление. Миссис и мистер Копли поместили его в газете «Леди». Они предлагали бесплатное жилье и питание тому, кто согласился бы делать для них, как они выразились, небольшую и несложную домашнюю работу. Разумеется, эвфемизм этот означает просто вытирать пыль и подметать в доме. Но этим дело никогда не ограничивается. И если бы не Элис… Я даже и не подозревала, как мне недостает женской дружбы. В школе у нас были просто группировки, союзы – оборонительные или наступательные. Объединялись по политическим пристрастиям и никак иначе.
Дэлглиш снова сказал:
– Агнес Поули поняла бы вас. Эта атмосфера… Она и сама дышала ею.
С минуту они шли молча, слыша лишь, как шуршат, раздвигаясь под их шагами, длинные стебли травы. Почему это, думал Дэлглиш, идешь к морю, и вдруг наступает момент, когда шум его обретает новую силу, будто кроющаяся в нем угроза, на некоторое время смилостивившись и притихнув, снова собирает воедино всю свою ярость. Вглядываясь в небо, проколотое крохотными иглами света, он, казалось, ощущал, как поворачивается под его ногами Земля, чувствовал, как таинственно замерло время, слив в единый миг прошлое, настоящее и будущее: руины аббатства; бетонные доты последней войны, упрямо не поддающиеся разрушению; у берега – рассыпающиеся защитные сооружения войны предыдущей; ветряную мельницу и АЭС. И еще он подумал, что, может быть, именно попав вот в такой временной лимб[26], утратив ориентиры, прежние владельцы «Обители мученицы» и выбрали тот текст. Тут вдруг его спутница остановилась и произнесла:
– В развалинах аббатства – свет. Две короткие вспышки, как фонарик.
Они постояли молча, вглядываясь во тьму. Ничего. Мэг сказала, чуть ли не извиняющимся тоном:
– Я уверена: там был свет. И какая-то тень – кто-то или что-то – двигалась на фоне восточного окна. Вы не заметили?
– Я смотрел на небо.
Она проговорила с сожалением:
– Ну, теперь там ничего не видно. Вполне возможно, мне просто померещилось.
И когда минут через пять они осторожно прошли по заросшей травой кочковатой земле в самое сердце разрушенного аббатства, там никого и ничего не было видно. Молча посмотрели в проем восточного окна к краю обрыва и увидели выбеленное луной пространство песчаного берега, протянувшегося на юг и на север и окаймленного кружевной полосой белой пены. Если тут кто-то и был, подумал Дэлглиш, у него масса возможностей скрыться с глаз долой за обломками бетона или в трещинах на склоне обрыва. Не было смысла, да и реальных причин устраивать погоню, даже если бы они знали, в каком направлении скрылся этот человек. Люди имеют право в одиночестве бродить по ночам.
Мэг заговорила снова:
– Конечно, мне могло померещиться. Только я так не думаю. Во всяком случае, ее здесь нет.
– Ее?
– Ну да. Разве я вам не сказала? У меня создалось совершенно четкое впечатление, что это женщина.
Глава 4
К четырем утра, когда Элис Мэар, тоненько и отчаянно вскрикнув, очнулась от ночного кошмара, над мысом поднимался ветер. Она протянула руку зажечь ночник, проверила время и легла на спину. Панический страх покидал ее медленно, глаза пристально глядели в потолок, пока ужасающая правдоподобность кошмара не истаяла в сознании. Это был старый сон, старый призрак, вернувшийся после долгих лет, вызванный к жизни событиями прошлого вечера и неоднократным повторением слова «убийство». С тех пор как Свистун принялся за дело, оно, это слово, казалось, постоянно звучит повсюду, словно носится в воздухе. Медленно-медленно Элис вернулась в реальный мир, явивший себя негромкими ночными шумами, вздохами ветра в трубах, ощущением крахмальной гладкости простыни под судорожно впившимися в нее пальцами, неестественно громким тиканьем часов и – более всего – прямоугольником бледного света за распахнутой рамой и раскрытыми шторами, в котором виднелось усыпанное звездами небо.
Сон не нуждался в истолковании. Это был просто еще один, новый вариант старого кошмара, не такой ужасный, как ночные видения детства, более рациональный, более взрослый кошмар. Она и Алекс снова были детьми, и все семейство жило вместе с миссис и мистером Копли в старом пасторском доме. Это – во сне – было вовсе не удивительно. Просто пасторский дом выглядел попросторнее и менее претенциозно, чем «Солнечный брег» – смешное название, ведь их дом стоял не на берегу, и солнце, казалось, никогда не заглядывало в его окна. Оба дома были построены в поздневикторианском стиле, из тяжелого красного кирпича, у обоих – по крыльцу под высокой заостренной крышей, а в глубине крыльца массивная дверь резного дерева, и каждый стоял одиноко, укрытый зеленью сада. Во сне Элис шла рядом с отцом по обсаженной кустами аллее. Отец нес кривой садовый нож-резак и одет был точно так, как в тот последний страшный осенний день: майка, промокшая от пота, и шорты. Он шагал широко, и слишком короткие шорты не могли скрыть выпирающую из-под них мошонку; бледные ноги от колен до ступней поросли густым черным волосом. На душе у Элис было неспокойно: она знала – Копли ждут, чтобы она приготовила им обед. Мистер Копли, облаченный в рясу и развевающийся стихарь, нетерпеливо шагал взад и вперед по лужайке за домом и, казалось, не замечал их присутствия. Отец что-то объяснял ей, слишком громко и с нарочитой терпеливостью – так он обычно разговаривал с матерью. Самый его голос как бы говорил: «Я знаю, ты слишком глупа, чтобы понять, но я буду говорить медленно и громко и, надеюсь, ты не станешь слишком долго испытывать мое терпение».
Он произнес: «Алекс не получит теперь эту должность. Я уж постараюсь, чтоб не получил. На такой пост никто не назначит человека, который убил собственного отца».
Говоря это, он взмахнул резаком, и Элис увидела, что лезвие обагрено кровью. И тут вдруг отец, сверкая глазами, бросился к ней, поднял руку, и она почувствовала, как острие ножа пронзило ей кожу на лбу и хлынувшая потоком кровь стала заливать глаза. Сейчас, уже совсем проснувшись, она часто дышала, как после быстрого бега. Поднесла ладонь ко лбу и поняла, что холодная влага на коже – не кровь, а пот.
Как всегда, раз уж она проснулась перед рассветом, не было ни малейшей надежды заснуть снова. Можно было бы встать, набросить халат, спуститься в кухню и заварить чай. Можно просмотреть гранки, почитать, послушать международную программу Би-би-си. Или принять снотворное. У нее огромный запас таблеток, ей-богу, достаточно сильных, чтобы подарить ей забвение. Но она старалась заставить себя отвыкнуть от снотворных. Поддаться соблазну теперь значило бы признать власть этого кошмара. Она сейчас встанет и заварит себе крепкого чаю. И не страшно, что она вдруг разбудит Алекса. Алекс очень крепко спит, даже зимние ураганы не в силах его разбудить. Но прежде чем встать, она должна совершить некую процедуру, вроде «изгнания бесов». Если она хочет, чтобы этот сон утратил власть над ней, если ей суждено каким-то образом помешать ему вновь и вновь возвращаться, она должна теперь, почти тридцать лет спустя, решиться и восстановить в памяти все события того дня.
Стоял теплый осенний день – начало октября. Она и Алекс вместе с отцом работали в саду. Отец расчищал густые заросли куманики и подстригал разросшиеся кусты, окаймлявшие дорожку в дальнем, не видном из окон дома конце сада. Отец яростно работал резаком, обрубая сучья, а она и Алекс оттаскивали их подальше в сторону, готовясь соорудить костер. Для этого времени года отец был одет слишком легко, но пот лил с него ручьем. Она и сейчас видела, как взлетает и падает его рука, слышала хруст сучьев под ножом, чувствовала, как колючки ранят ее пальцы, в ушах ее снова звучал резкий голос, отдающий приказы. А потом вдруг отец вскрикнул. То ли попался гнилой сучок, то ли отец промахнулся… Резак соскользнул и впился в голую ногу выше колена, и, обернувшись на крик, Элис увидела, как фонтаном хлынула из раны алая кровь, и отец стал оседать, словно раненый зверь, а пальцы его бессильно цеплялись за воздух. Выронив резак, он протянул к ней дрожащую правую руку, ладонью вверх и смотрел умоляюще, беспомощно, словно ребенок. Пытался что-то сказать, но Элис не могла расслышать слов. Словно зачарованная, она двинулась к отцу, но тут почувствовала, как ее схватили за руку: Алекс тащил ее прочь по дорожке, меж кустами лавровишни, в глубину фруктового сада.
Она крикнула:
– Алекс, стой! Он истекает кровью! Он умирает! Надо позвать на помощь.
Элис не могла вспомнить, сумела ли она и вправду произнести эти слова. Все, что осталось в памяти, – это сильные руки брата на ее плечах, когда он прижал ее спиной к корявому стволу яблони и держал так не отпуская. Он произнес только одно слово: