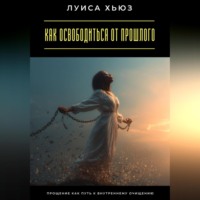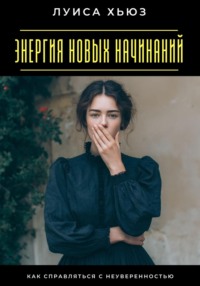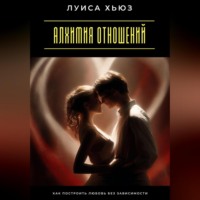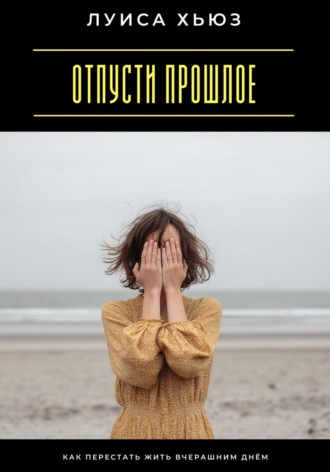
Полная версия
Отпусти прошлое. Как перестать жить вчерашним днём
Самонаказание – теневая экономика сожаления. Оно не выглядит как заточение в башне, чаще оно выражается в маленьких запретах: не покупать себе платье, потому что «не заслужила», не принимать приглашение, потому что «не вправе, сначала рассчитайся с долгами перед прошлым», не вступать в новые отношения, потому что «какое имею право на новое, если не признала старого». Эти запреты создают впечатление, что мы оплачиваем чек за ошибку, как будто где-то существует касса, где учитывают тщательность нашей суровости. Но никто не ставит отметки за строгость к себе. Суровость не исправляет прошлое, она деформирует настоящее. Невозможность радоваться сегодня – не честная плата за вчерашние решения, а новый счёт, который мы открываем сами себе, и проценты на нём растут в геометрической прогрессии, потому что каждая несостоявшаяся радость добавляет ещё одну причину для сожаления.
Особой густоты сожаление набирает в сфере отношений. Вспоминается тот разговор, где можно было промолчать или, наоборот, сказать, и кажется, что всё было бы иначе, если бы фраза прозвучала в другой последовательности. В памяти легко перемещать слова как шахматные фигуры, но реальные эмоции не подчиняются правилам классической партии. Там, в моменте, нас сковывала усталость, или сдавливало горло от непереносимого страха потерять, или в голове шумел поезд, мчащийся через привычные установки. Мы не машины, выдающие оптимальное решение, мы люди, и в этом наша уязвимость и наша красота. Иногда сожаление о невремени превращается в более тонкое чувство – в щемящую благодарность за то, что мы вообще пытались любить, не имея инструкций. Такое сожаление не разрушает, оно напоминает о ценности пережитого, отдаёт должное нашему старанию и мягко предлагает жить дальше.
Сожаление умеет маскироваться под мудрость. Оно говорит голосом старшего наставника: «теперь ты знаешь, как надо», и в этом есть правда, но только если знание не превращается в каменную табличку. Мудрость живая, она допускает поправки, она знает, что знания хороши ровно настолько, насколько они применимы в сегодняшней реальности. Живая мудрость не требует от нас возвращаться в те же точки, чтобы корректно разыграть сцену из прошлого, она предлагает применять узнавание здесь. Если вчерашняя промашка научила вслушиваться в паузы собеседника, это знание не нужно проверять на том же человеке и в той же ситуации; ему место в новой беседе, где другой человек и другая интонация. Так сожаление перестаёт быть долговой ямой и становится мостиком, по которому можно переходить через подобные места без падений.
Есть ещё феномен «вторичного сожаления» – сожаления о времени, потраченном на сожаление. Это коварная ловушка. Стоит заметить, как много дней ушло на пережёвывание старого эпизода, как возникает новая волна самообвинения: «сколько можно было бы сделать, если бы я тогда перестал об этом думать». Здесь важно вовремя улыбнуться самому себе, как взрослый улыбается ребёнку, который слишком серьёзен для своих лет. Время, потраченное на сожаление, не было пустотой; оно было частью процесса, в котором психика искала точку опоры. Конечно, мы мечтаем о быстроте, но скорость не единственный показатель качества пути. Приняв это, легче остановить второй виток спирали. Пусть из цепочки «сожаление о сожалении» выпадет хотя бы одно звено – уже будет пространство для движения.
Навязчивые «если бы» питаются двумя ошибочными представлениями. Первое – что существует идеальная линия жизни, от отклонения от которой начинаются все беды. Второе – что ошибка в прошлом лишает права на радость в будущем. Обе идеи привлекательны своей простотой, но в реальности жизнь разветвляется бесконечно и допускает множество путей к смыслу. Никакая ошибка не отнимает у человека способности возрастать, как дерево, которое нашло новый луч света. Наоборот, именно в местах изломов проявляется изобретательность, терпение, стойкость, которыми мы потом гордимся гораздо больше, чем гладкими победами. Разглядеть это получается не сразу, но однажды взгляд выхватывает не только потерянную возможность, но и обретённые качества, и тогда сожаление перестаёт быть чёрной краской и становится полутоном, на котором более ярко смотрятся новые мазки.
Существует соблазн закрыть тему сожалений радикальным отказом от чувствительности: «не оглядывайся, не думай, не чувствуй». Но отказ от чувствительности лишает нас не только боли, но и удовольствия. Он лишает нас тонких настроек, необходимых для близости, творчества, понимания себя. Куда важнее научиться дозировать взгляд назад. Это как с приправой: её достаточно щепотки, чтобы вкус стал объёмнее; если пересыпать, блюдо станет несъедобным. Щепотка сожаления говорит нам, где мы ушли от своих ценностей, и подсказывает, как вернуться. Избыток превращает любую прогулку в назад. Умеренность возможна, когда мы в теле замечаем первых вестников зацикливания: тот же тяжёлый вдох при слове «если бы», тот же наклон плеч вперёд, тот же взгляд, который плывёт мимо деталей настоящего. Здесь помогает простой жест – вернуть зрение и слух к текущей сцене, назвать вслух три вещи, что есть прямо сейчас, и тем самым призвать себя обратно из музея альтернатив.
Воля к радости – не наивность. Это зрелое решение, требующее дисциплины. Радоваться – значит разрешить себе контакт с миром без постоянных запросов на пересмотр прошлых сцен. Это не отменяет размышлений и выводов; это устанавливает границы для прокурора внутри нас. Когда голос прокурора начинает громко перечислять пункты обвинения, полезно пригласить к столу защитника – ту часть себя, которая может рассказать о сделанном, о пережитом, о любви, с которой мы пытались, даже когда не получалось. Доводы защиты не белят нас до чистого листа, они возвращают к объёму, где есть разные оттенки. В этом объёме легче принимать решения о сегодняшнем дне: сказать «да» приглашению на прогулку, даже если мысли зовут в архив; приготовить ужин, даже если внутри идёт заседание; позвонить тому, кому давно хотелось позвонить, не ожидая идеального момента, потому что идеальные моменты приходят к тем, кто не ставит их условием для движения.
Потерянные возможности часто обнаруживаются при встречах с людьми, которые успели выбрать иначе. Мы смотрим на них и нас накрывает волна сравнения. Но чужой выбор виден нам, как открытка, без оборотной стороны с описанием дороги, ошибок, сомнений и цен, которые заплачены. Мы видим фасад, и фасад всегда привлекательнее стройки. Стоит поговорить глубже – и обнаруживается, что и там, в чужой жизни, хватает «если бы», просто там они про другое. Эта простая истина не призывает обесценивать чужой опыт, она предлагает вернуть фокус: сравнение возможно, но справедливее сравнивать не финальные кадры, а контексты, не чужую легенду, а собственные приоритеты. Тогда чужой успех перестаёт быть нашим обвинением и становится чьей-то дорогой, а у нас появляется энергия продолжать движением своим темпом.
Сожаления особенно болезненны, когда в них завязано нечто не поддающееся исправлению: смерть, прощание, утеря без возврата. Здесь бессмысленно говорить о «новых возможностях» в старом, буквальном смысле. Но здесь возможны новые отношения с памятью. Можно прожить ритуал благодарности за то, что было, не вымогая у него бесконечности. Можно учиться носить скорбь, не превращая её в единственный цвет палитры. Можно рассказывать истории о близком так, чтобы в них жила не только дата, но и смех, привычки, запахи детства, то, что делает присутствие живым даже в отсутствии. В этом нет «позитивного мышления», в этом есть уважение к объёму жизни, где место у утрат не равно размеру целого.
Чувство вины, которое мешает радоваться настоящему, часто держится на убеждении, что радость – награда за безупречность. Мы ставим себе невыполнимое условие: сначала будь идеальным, потом разверни объятия. Но радость – не награда, а питание. Без неё не хватает сил даже на исправления, даже на то, чтобы быть внимательным и добрым. Разрешая себе радость, мы не оправдываем старых ошибок и не подменяем работу над собой; мы даём себе топливо, чтобы работа стала возможной. В одном тексте однажды прозвучал образ: «вина – как камень в кармане, который тянет ко дну; радость – как воздух, который наполняет лёгкие». Нельзя идти далеко, если всё время глотать воду. Нужны вдохи. Эти вдохи не крадут у покаяния серьёзность; они возвращают ему смысл, потому что каяться бесконечно и оставаться живым трудно, а оставаться живым важно, иначе кому доверить исправления?
Воспоминания о потерянных возможностях меняют свой вес, когда появляются новые смыслы. Человек, который однажды не уехал, может обнаружить, что остался и вырастил рядом то, чего бы не случилось в другом месте. Тот, кто не рискнул сменить сферу, может увидеть, как его мастерство углубилось до той степени, где начинается искусство. Тот, кто однажды промолчал, может научиться говорить так, что его слова теперь достигают тех, до кого раньше не доходили. Это не попытка переписать историю, а способ ввести в неё координату, где движение продолжается. Жизнь не выстраивается из идеальных решений, она вырастает из согласию продолжать, корректировать, признавать, понимать, выбирать снова. В этом согласии сожаление перестаёт быть катком и становится тонкой линией, по которой мы читаем урок, а потом откладываем учебник и идём жить.
Иногда нужно позволить себе траур по нереализованным сценариям. Настоящий траур не о том, как всё могло быть прекрасно, а о том, что часть мечты не осуществилась и это больно. Его задача – не затащить нас в музей альтернатив, а закрыть выставку, чтобы освободить зал для новых работ. Траур даёт право не спешить, право не развлекать себя иллюзиями, право говорить правду о своей печали. И когда эта правда сказана, на её месте вырастает пространство, в котором тише и спокойнее. Там легче услышать, чего хочется на самом деле, без опоры на «как было бы правильно двадцать лет назад». Там появляются желания нынешнего человека, а не призрака из давно прошедшего времени. И это важнейшее различение: мы живём сегодня, а не вчерашней версией себя.
Радость не отменяет памяти, как память не обязана отменять радость. Они могут сосуществовать, если мы перестаём ставить им взаимоисключающие задачи. Пусть память хранит то, чему научила нас жизнь, а радость напоминает, ради чего мы живём. Пусть сожаление служит маяком, указывая на места отступления от ценностей, а не прожектором, выжигающим глаза. Пусть вина мягко подталкивает к исправлению, а не втаптывает в землю. Пусть альтернативные дороги остаются на картах, но рука, выбирающая маршрут, будет принадлежать сегодняшнему человеку, который знает себя лучше, чем тот, кто стоял на развилке когда-то. Тогда сожаление перестанет быть тоном, в котором написан весь текст, и станет пунктуацией – иногда тяжёлой, но нужной, чтобы фраза жизни читалась честно и глубоко.
Глава 4. Незавершённые истории
Есть истории, которые не заканчиваются, а просто обрываются на полуслове, оставляя во рту сухой привкус недосказанности. Мы живём дальше, отвечаем на письма, варим кофе, говорим с соседями, но где-то внутри нас всё ещё тянется невидимая нитка туда, где не прозвучала последняя реплика. С такой ниткой трудно двигаться свободно: она напоминает тонкий шрам, который ноет на погоду, и чем меньше мы признаём его существование, тем сильнее он диктует темп шагов. Незавершённые истории не обязательно грандиозны. Порой это короткая переписка, которая вдруг замолчала, и в молчании мы услышали больше, чем в сотне слов. Порой это разговор, оборванный звонком, к которому уже не вернулись, и теперь в любой паузе нам мерещится упущенная возможность понять друг друга. Иногда это обещание, сказанное слишком уверенно и потому так и не выполненное. Все эти обрывы объединяет одна сила – неопределённость, рождающая у нервной системы привычку быть в режиме ожидания. Ожидание не про настоящее; оно держит взгляд, как прожектор, направленный в пустую сцену, и наша психика, чтобы оправдать этот яркий свет, придумывает, что вот-вот кто-то выйдет и скажет то самое слово, которого мы ждём.
Трудность отпустить незавершённое начинается с того, что человеку нужен смысл, а смысл требует целостной формы. Мы рассказываем себе о мире в виде сюжетов, в которых есть завязка, развитие, разворот, итог. Даже самые незначительные эпизоды мы интуитивно упаковываем в небольшой рассказ, и когда рассказ рвётся до финала, голова остаётся включённой. Она продолжает крутить шестерёнки, как механизм, которому забыли дать команду «стоп». Внутри этого механизма работает древняя пристрастность к завершённости: то, что не получило точки, воспринимается как потенциально опасное. Отсюда ночные диалоги с отсутствующими собеседниками в душе, многократные прожектировки новых фраз, попытки угадать мотивы другого, и утомительная, но знакомая радость от любого случайного знака, который можно интерпретировать как продолжение. Мы словно находимся между двумя берегами и не решаемся ни плыть дальше, ни вернуться назад, потому что где-то воображаемый паромщик скоро подойдёт к пристани и поможет нам перебраться. Но паромщик не приходит, а мы за это время успеваем отвертеть в голове все сценарии, как телефонный диск, который можно долго вращать, ничего не набирая.
В незавершённости есть своё сладкое ядро. Оно обещает, что у наших чувств есть шанс быть услышанными, если только мы подберём правильные слова. Оно шепчет, что у обиды есть шанс превратиться в справедливость, если только мы сохраним память бодрствующей. Оно внушает, что у любви есть шанс воскреснуть, если только мы будем верными сторожами её остатков. Именно это обещание удерживает нас в коридоре ожидания. Мы выбираем сторожить дверь вместо того, чтобы выйти на улицу и вдохнуть воздух непредсказуемости, потому что здесь всё знакомо: этаж, на котором мы стоим, знакомую тревогу можно почти приручить, она щёлкает как прибой и выдаёт хотя бы ритм. В непредсказуемости тоже есть ритм, но он не подчиняется старым опорам; его надо заново искать, а для этого требуется смелость принять возможность новых отказов, новых нестыковок, новых неидеальностей. Незавершённая история, какой бы болезненной она ни была, предлагает фальшивую защиту от новой боли: пока мы смотрим назад, кажется, что впереди ничего не случится. И ничего действительно не случается, кроме жизни в коридоре.
Незавершённость особенно коварна в отношениях, где исчезновение стало финалом вместо слов. Когда кто-то уходит молча, он оставляет не пустоту, а хаотическую, звенящую тишину, в которой слышно всё, что мы сами туда положим. Мы распаковываем эту тишину как конструктор: берём деталь собственной неуверенности, прикручиваем к ней деталь чужой рассеянности, сверху добавляем деталь прошлых травм, и вот уже собран монстр, который смотрит на нас глазами «ты недостаточно хорош». Этот монстр не враг в чистом виде; он продукт нашей потребности навести порядок там, где порядок нам не дали. Но пока мы кормим его новыми допущениями, он растёт, и с каждой новой догадкой реальный человек в нашем воображении уменьшается, уступая место фигуре с карикатурными чертами. Проще жить с карикатурой, чем с тайной. Но тайна не обязывает нас к бессрочному сторожеванию. Тайна – приглашение признать границы контроля: мы не управляем чужими исчезновениями, мы управляем тем, что делаем со своим дыханием, когда дверь остаётся закрытой.
Сложность отпустить незавершённое связана и с тем, как устроена наша идентичность. Мы часто встраиваем в неё чужие оценочные взгляды, чужие версии нас. Если важный для нас человек исчезает без пояснений, рушится мост, по которому его взгляд доходил до нас, и мы спешно строим прокси-конструкции из догадок, чтобы и дальше ощущать, что нас видят. Но это ложное видение. Оно отражает не нас, а наши страхи и надежды, запертые в коморке памяти. Любовная история без финала легко превращается в культ собственного ожидания, дружба без объяснений – в хроническую настороженность, рабочий проект без обратной связи – в невроз самопроверки. Мы словно подвешиваем свою самоценность на крючок, который находится у другого, и ждём, что он подойдёт и снимет её, аккуратно объяснив, что произошло. Мудрость освобождения в том, чтобы переносить крючок внутрь. Не для того, чтобы обесценить чужой взгляд, а чтобы перестать зависеть от его наличия как от источника кислорода. Когда этот крючок возвращается домой, незавершённая история перестаёт быть панелью управления нашей реальностью.
Отпустить незавершённое трудно ещё и потому, что современная культура предлагает широкий выбор технических продолжений: всегда можно отправить ещё одно сообщение, ещё раз пересмотреть переписку, ещё раз зайти на страницу с фотографиями, ещё раз проверить входящую папку, ещё раз написать черновик прощального письма. Эти микроакты дают иллюзию движения. На самом деле мы просто подбрасываем в печь уголь, чтобы поддерживать пламя старого очага. Человеку свойственно любить ритуалы, а эта подпитка незавершённого и есть ритуал, только с обратным знаком. Она удерживает связь с тем, что не живёт, и одновременно отбирает силы у того, что могло бы родиться. Когда мы честно видим это, появляется шанс на другой ритуал. Ритуал прощания не равен капитуляции, как и ритуал признания не равен оправданию другого. Это ритуал, в котором мы фиксируем факт: история не получила финала вовне, и я даю ей финал внутри, такой, какой мне позволяет совесть, чувство достоинства и любовь к собственной жизни.
Незавершённость имеет ещё одну особенность – она способна заражать соседние смыслы. История без конца тянет на себя внимание, как магнит, и случайные совпадения начинают худо-бедно притягиваться к ней. Мы делаем из них доказательства или пророчества. Певучая музыка из магазина превращается в знак, оброненная фраза знакомого прорастает как подсказка, фотографии в случайной ленте складываются в карту, на которой у каждой стрелки написано «ждать». Это не суеверие в чистом виде, это попытка психики построить мост через незнание. И все же мосты, построенные из случайностей, трещат. На них страшно ступить, потому что ноги чувствуют пустоту между досками. Стабильный мост строится из признания фактов, из аккуратно произнесённых «я не знаю», из заботы о себе, который устал быть в карауле. Когда мы произносим эти три основания, земля под ногами перестаёт быть зыбучей. Оказывается, что можно жить рядом с тайной, не пытаясь каждую минуту подавить её объяснением.
Незавершённые истории часто связаны с тем, что мы не сделали, но ещё чаще – с тем, что нам не сказали. Человек устроен так, что объяснение боли уменьшает её, а молчание умножает. Объяснение не обязательно должно быть идеальным, иногда достаточно несовершенных слов, которые признают наш опыт. Когда их нет, мы теряем не только опору, но и часть смысла о себе. И всё же смысл – это не монополия других. Внутренний монолог способен стать тем островом, на котором мы строим собственные объяснения, не наивные и не лживые, а честные: я был важен, но меня не поставили в известность; я сделал всё, что мог, исходя из своих сил; я имею право на печаль, а не только на гордую автономию; я имею право на нежность к себе, даже если другой не нашёл для меня слов. Эти объяснения не должны быть громкими, они должны быть убеждёнными. Тогда голос, который раньше просил финала, начинает говорить о другом – о жизни, которая не обязана быть продолжением чей-то истории.
В незавершённости много гнева. Гнев – это энергия, которая чует нарушенную границу. Когда история обрывается без финала, граница действительно нарушена, и гнев правомочен. Но если он долго не находит формы, он превращается в ржавчину. Ржавчина берёт в заложники мягкость, чувство юмора, доверие к миру. С ней трудно рассмеяться, потому что смех кажется неуместным рядом с гордостью сторожа. Именно поэтому так важно дать гневу уважаемое место, высказать его там, где это безопасно, признать, что он служил нам, когда больше ничего не получалось, и поблагодарить его, когда роль сыграна. Тогда эмоция перестаёт заниматься саботажем из-за тени, и незавершённая история теряет своего бессменного режиссёра. На сцену выходит другой актёр – спокойствие, которое не требует забыть, но отказывается бдительно караулить.
Иногда незавершённые истории держатся на маленьких якорях: вещи, музыка, места, в которых наш опыт застыл, как фотография в рамке. Это якоря не злодеи, их не нужно объявлять вне закона, но можно лишить командирского голоса. Тот же парк, где не дождались, может стать местом нового смысла, если прийти туда с другим человеком, другой книгой, другой мыслью о себе. Тот же предмет, что был подарком, может перевоплотиться в символ собственной силы, если разделить с ним новое действие, не связанное с прошлым. Такие перевоплощения не обесценивают памяти, они добавляют ей объёма. Память перестаёт быть закрытой витриной и становится живой комнатой, где вещи меняют расположение и предназначение. Комната прошлого, в которой двигают мебель, вдруг получает окно.
Самое сложное в незавершённости – согласиться, что некоторым историям не суждено иметь внешний финал. Это не поражение, это настройка точки зрения. Финал – вещь относительная. Иногда он похож на красивую коду, иногда – на наклоненную голову и тихое «я услышал». Иногда – на короткое сообщение, в котором наконец-то прозвучало «прости». Но достаточно часто финал – это внутренний акт признания: всё нужное уже сказано мной себе. Такой финал не требует аплодисментов и печатей, у него другая природа. Он возвращает нам право быть авторами, а не только читателями и оценщиками. Быть автором – значит решать, какими словами заканчивать абзацы внутреннего текста, даже если внешний мир оставил многоточие. Это скромная, не героическая работа, но именно она снимает с нас кандалы караульной службы.
Мы тратим на незавершённые истории огромное количество времени, потому что надеемся однажды оглянуться и сказать: «всё было не зря». Но «не зря» возникает не от того, что история получила бравурный финал, а от того, что она стала кирпичом в нашем доме, а не камнем в рюкзаке. Дом строится из признаний, решений, мягких пересборок, заботливых пауз, из разрешения себе радоваться теперь, а не только потом, когда в книжке поставят последнюю точку. Дом строится из маленьких «да» сегодняшнему дню, в котором есть место печали, но печаль не организует расписание. Дом строится из людей, которые рядом, и из умений быть с ними не как следователь, вымогающий объяснений за чужие исчезновения, а как соавтор, предлагающий искренность и границы. В таком доме незавершённые истории не прячутся в подвале, они занимают полку в библиотеке, и иногда к ним можно возвращаться, не чтобы искать пропущенные слова, а чтобы вспомнить, как далеко мы ушли от тех залов ожидания.
И тогда отпускание становится не жестом насилия над собой, а естественным движением, напоминающим выдох после долгой задержки дыхания. Оно не стирает важные лица и не переписывает подлинность пережитого. Оно просто освобождает руки, чтобы было чем встречать то, что идёт навстречу. Мы перестаём стоять у неслучившейся встречи и обнаруживаем, что мир всегда был немного шире двери, к которой мы приникли щекой. Он просторен, когда в нём нет караулов, и тёпл, когда в нём можно быть живым, не доказывая ничего прошлому. Незавершённые истории по-прежнему остаются частью нас, но они перестают быть режиссёрами и становятся материалом для нашей речи о себе. В ней появляется новая интонация – ровная, честная, без просьбы о подтверждении, потому что подтверждение уже дано изнутри. И с этой интонацией легче входить в любое утро: не как сторож, а как человек, который прошёл длинный коридор и наконец-то вышел на свет.
Глава 5. Иллюзия контроля
Есть особый вид внутренней работы, который кажется благородным, почти героическим: мы снова и снова возвращаемся к одному и тому же событию, словно к неразгаданной шкатулке с тайным механизмом, уверенные, что если ещё раз поворотить в уме невидимый ключ, всё встанет на место. Мы сидим над прошлым как часовщик, наклоняемся, задерживаем дыхание, меняем фокус, прокручиваем в памяти реплики, интонации, варианты действий, и с каждым витком всё глубже увязаем в ощущении, будто вот-вот произойдёт маленькое чудо и заводная пружина истории заведётся иначе. Это и есть иллюзия контроля – мягкая, тихая, почти утешительная. Она даёт чувство занятости, обещает вознаграждение за усердие, снабжает аргументами, почему именно сегодня нельзя остановиться. В этом есть своя логика: если не получается изменить произошедшее, то хотя бы мысленное «пережёвывание» событий подарит ощущение власти над ними. Но власть, полученная таким способом, подобна власти над сном: чем упорнее мы пытаемся управлять сюжетом, тем чаще просыпаемся уставшими, не отдохнувшими и вдвойне не уверенными в реальности собственного дня.
Прошлое кажется податливым, потому что память – материал пластичный. Мы действительно можем менять оттенки, переставлять акценты, находить новые смыслы, и это ценная способность, помогающая исцеляться. Но иллюзия контроля обманывает в другом. Она убеждает, что достаточно правильного анализа, достаточно ещё одного тура внутреннего следствия, и выстроится альтернативная развилка, где мы скажем правильную фразу, примем правильный поворот, заметим намёк, который тогда пропустили. Она обещает техническое исправление: как будто время – это текстовый файл, а мы нашли доступ к функции «отменить». Проблема в том, что эта функция работает только на внутреннем ощущении, а не на факте. Мы исправляем не прошлое, а историю о нём, и если эта работа делается для того, чтобы вернуть себе опору, она плодотворна; если же она служит попыткой переписать реальность, она превращается в бесконечную петлю. Петля тем коварнее, чем больше мне казалось, что я поступаю ответственно. Я не бездействую, я анализирую; я не застрял, я ищу закономерность; я не убегаю от настоящего, я готовлю его, тщательно, как к выступлению. В такие моменты мы не замечаем, что микроскоп анализа увеличил пылинки до масштаба гор, а гора сегодняшнего дня всё не начинается, потому что всё время уходит на очищение линзы.