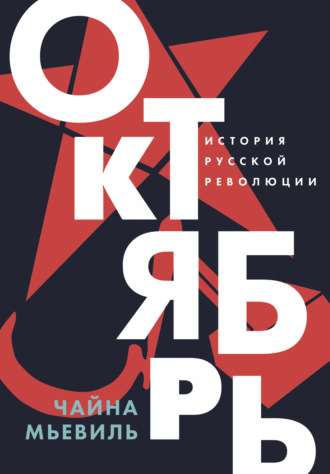
Полная версия
Октябрь: История русской революции
Что же касается Ленина – все, кто его видит впервые, буквально заворожены им. Кажется, никто из встречавшихся с ним не мог удержаться, чтобы о нем не написать: из подобных книг можно составить целую библиотеку. Его с легкостью мифологизируют, боготворят, демонизируют. Для своих врагов он хладнокровный монстр, массовый убийца, для восторженных поклонников – богоподобный гений, для товарищей и друзей – застенчивый, смешливый любитель детей и кошек. Склонный к выстраиванию четких фраз и использованию несколько неуклюжих метафор, он скорее автор доступных текстов, чем искрометный художник слова. Однако его работы и выступления околдовывают, даже затягивают своей поразительной плотностью и целеустремленностью. На протяжении всей жизни Ленина противники и соратники будут резко критиковать его за суровость действий, непоколебимость и беспощадность. При этом все будут единогласны в том, что он обладает выдающейся силой воли. Ленинская страсть и самопожертвование выделяются даже на фоне тех, кто живет политикой и умирает за нее.
Его отличает прежде всего обостренное чувство политического момента, способность увидеть перелом ситуации и тенденцию развития. Луначарский, его соратник, отмечал, что «Ленин имеет в себе черты гениального оппортунизма, то есть такого оппортунизма, который считается с особым моментом, и умеет использовать его в целях общей всегда революционной линии».
Не то чтобы Ленин никогда не ошибается. Он, однако, обладает развитым чувством того, когда и где следует подтолкнуть события, как именно и с какой силой это сделать.
В 1898 году, на следующий год после ссылки Ленина в Сибирь за революционную деятельность, марксисты объединяются в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). В течение нескольких лет, несмотря на нахождение в ссылке, Мартов и Ленин остаются близкими товарищами и друзьями. Совершенно разные по характерам (что предполагало неизбежные ссоры), они тем не менее дополняют друг друга и проявляют взаимную симпатию. Это пара марксистских вундеркиндов.
От Карла Маркса, как бы ни отличались подходы по другим вопросам, идеологи РСДРП усваивают видение истории как череды последовательных стадий, необходимо следующих одна за другой. Такие «стадиальные» концепции могут существенно варьировать в деталях и степени жесткости – Карл Маркс сам выступал против превращения своего «исторического очерка» о возникновении капитализма в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому обречены идти все народы; он заявил, что это было бы для него «слишком почетно и стыдно одновременно». Тем не менее среди большинства марксистов в конце XIX века не вызывает споров, что социализм, начальный после капитализма этап на пути к коммунизму, может возникнуть только из буржуазного порядка со свойственными ему политическими свободами и рабочим классом, которому предстоит взять власть в свои руки. Отсюда следовало, что самодержавная Россия, где преобладает крестьянское население, а рабочий класс весьма незначителен (и в основном состоит из крестьян только что от сохи), с помещичьим землевладением и всевластным царем, еще не созрела для социализма. Как говорит Плеханов, в российском крестьянском тесте еще недостаточно пролетарских дрожжей, чтобы приготовить пирог социализма.
Память о крепостном праве еще жива. Буквально в нескольких километрах от городов крестьяне продолжают жить почти в средневековом убожестве. Зимой они держат животных в избах, и те претендуют на место у печи. Стоит запах пота, табака и копоти. Какие бы ни происходили улучшения в стране, многие крестьяне по-прежнему ходят босиком по грязным улицам, и уборными им служат выгребные ямы. Все дела, относящиеся к пользованию землей, решаются на беспорядочных общинных сходах исключительно путем перекрикивания друг друга. Нарушителей общепринятых обычаев заглушают криками и шумом, зачастую их прилюдно позорят, а иногда и забивают до смерти.
Но есть и кое-что похуже.
Согласно восторженным декламациям Карла Маркса и Фридриха Энгельса в «Манифесте Коммунистической партии», именно «буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную роль. Она… разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы» и, сосредоточив пролетариат на крупных предприятиях, создала тем самым «своих собственных могильщиков». Однако в России буржуазия не является ни безжалостной, ни революционной. Она не разрывала никаких пут. В программном документе РСДРП записано: «Чем дальше на восток Европы, тем в политическом отношении слабее, трусливее и подлее становится буржуазия и тем большие культурные, политические задачи выпадают на долю пролетариата».
Автор этих слов, Петр Струве, вскоре повернет вправо. В России так называемые легальные марксисты часто через марксистскую идеологию окольным путем идут в либералы; их внимание плавно перемещается с нужд рабочего класса к необходимости «модернизации» капитализма (чего трусливая российская буржуазия никак не могла осуществить). Еще одной левой «ересью» является экономизм, согласно которому рабочие должны сосредоточиться на профсоюзной деятельности, предоставив право заниматься политической борьбой либералам. Ортодоксальные марксисты осуждают упомянутые еретические расхождения с их идеологией, расценивая те как направленные на подрыв социалистической борьбы. Тем не менее «легальные» марксисты и сторонники экономизма, невзирая на очевидную неэффективность их концепций, сосредоточиваются на рассмотрении текущих ключевых вопросов. И сталкиваются с головоломной для левых проблемой: как вообще может существовать социалистическое движение в незрелой стране со слабым и маргинальным капитализмом, многочисленным «отсталым» крестьянством и монархией, которая не собирается милостиво допустить буржуазную революцию?
⁂Конец XIX века становится свидетелем империалистических интриг, союзов и контрсоюзов в нарастающей жажде экспансии. Внутри страны колониальные стремления проявляются в безусловной поддержке языка и культуры правящих российских элит, в ущерб меньшинствам. Ряды националистов и левых пополняются выходцами из коренных народов и наций: литовцами, поляками, финнами, грузинами, армянами, евреями. Социалистическое движение в Российской империи всегда было полиэтническим, вбирая непропорционально большую долю представителей различных национальных меньшинств.
Начиная с 1894 года лоскутным одеялом империи правит Николай Романов. В юности Николай II стоически переносил издевательства своего отца. Вступив на престол, он отличался учтивостью, был предан своему долгу – но больше о нем было нечего сказать. «Его лицо, – неохотно сообщает один чиновник, – невыразительно». Для него характерно не наличие черт, а скорее их отсутствие: отсутствие выражения на лице, воображения, интеллекта, проницательности, напористости, решительности, душевных порывов. К этому описанию можно добавить то, что он производил впечатление «не от мира сего», брошенного на произвол судьбы и плывущего, куда несет история. Он был образованной пустышкой, заполненной предрассудками своего окружения (среди которых стоит отметить и погромный антисемитизм, направленный, в частности, против жидов-революционеров). Испытывая отвращение к каким-либо переменам, он беззаветно предан идее самодержавия. При произнесении слова «интеллигенция» его лицо искажается, словно он вынужден произнести слово «сифилис».
Его супруга, Александра Федоровна, внучка английской королевы Виктории, крайне непопулярна в российском обществе. Отчасти это объясняется шовинизмом (она немка, а между двумя странами в тот период нарастает напряженность), но эта ситуация сложилась в том числе из-за ее безрассудных интриг и явного презрения к народу. Французский посол в России Морис Палеолог кратко описывает ее настроения следующим образом: «Душевное беспокойство, постоянная грусть, неясная тоска, смены возбуждения и уныния, навязчивая мысль о невидимом и потустороннем, суеверное легковерие».
У четы Романовых четыре дочери и сын Алексей, больной гемофилией. Они дружная, любящая семья. Принимая во внимание упорное нежелание царя и царицы смотреть дальше своего носа, они обречены.
⁂С 1890 по 1914 год масштабы рабочего движения в России существенно выросли, само движение окрепло. В борьбе с ним власти прибегают к неуклюжим методам. В городах растущее народное недовольство пытаются сдержать путем создания легальных «полицейских профсоюзов», рабочих обществ, организованных и покровительствуемых самими властями. Чтобы обеспечить идее хоть какую-то привлекательность, общества эти должны были действительно решать насущные проблемы рабочих, а их организаторы должны были, по выражению историка-марксиста Михаила Покровского, являться «хоть каким-то подобием революционных агитаторов». Требования, которые предъявляют эти общества власти, являются лишь слабым эхом рабочих призывов, но и в слабых отголосках можно разобрать идеи, последствия применения которых нельзя предвидеть.
В 1902 году забастовка, организованная подобным профсоюзом в Одессе, охватывает весь город. На следующий год аналогичные массовые акции протеста расходятся по всему югу России, и отнюдь не все они контролируются марионеточными структурами, созданными властями. Забастовки распространяются с бакинских нефтяных месторождений по всему Кавказу. Искры восстания разгораются в Киеве, в той же Одессе, повсюду. К этому времени забастовщики выдвигают не только экономические, но и политические требования.
На фоне ускорения событий в 1903 году сильные мира российских марксистов в количестве 51 человека переносят принципиально важное собрание из кишащего блохами брюссельского склада в Лондон. Там, в задних комнатах кафе и рыболовных клубов, в течение трех недель напряженных споров проходит II съезд РСДРП.
Именно на двадцать втором заседании этого съезда между его делегатами разверзается пропасть, происходит раскол, знаменательный не только по своей глубине, но и по кажущейся тривиальности причины. На рассмотрение участников съезда вынесен вопрос, кто может считаться членом партии: «всякий, принимающий ее программу, поддерживающий партию материальными средствами и оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций», или «принимающий личное участие в одной из партийных организаций». Мартов выступает за принятие первой формулировки. Ленин настаивает на второй.
Уже некоторое время назад отношения между ними стали прохладнее. На этот раз после энергичных дебатов побеждает Мартов: его формулировка получает 28 голосов, против поданы 23. Однако разногласия между участниками съезда возникают и по другим вопросам, а к тому времени, когда стал рассматриваться вопрос об органах партийного руководства, съезд покинули представители Бунда (Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России) и марксисты-«экономисты». Мартов потерял восемь своих сторонников. В результате сторонники Ленина получают большинство на выборах в ЦК партии. С этого момента раскола российских марксистов на две основные фракции последователей Ленина стали называть большевиками, а их оппонентов, последователей Мартова, – меньшевиками.
Причины раскола гораздо глубже, чем разногласия по поводу условий членства в партии. Уже во время съезда Ленин называет своих сторонников «твердыми», а противников – «мягкими», и различие между партийными фракциями марксистов впредь сохранится в целом именно по указанному принципу: большевиков будут считать «твердыми», бескомпромиссными левыми, а меньшевиков – более умеренными, «мягкими» (хотя это не исключало широкого спектра взглядов у каждой из сторон и неизбежной эволюции этих взглядов). В основе же спора о партийном членстве – в духе мудреной моды того времени, порой непонятной даже Ленину, – лежит различный подход к политической сознательности, методам ведения агитации, определению рабочего класса, в конечном счете к истории и российскому капитализму. Спустя 14 лет эти разногласия обозначатся предельно четко, когда вопрос центральной роли рабочего класса выйдет на первый план.
В то время реакция со стороны Мартова последовала быстро: решения съезда в Лондоне фактически отменены, а Ленин в конце 1903 года выходит из редакции партийного издания «Искра». Однако многие активисты РСДРП, зная о расколе в партии, считают его абсурдом. При этом некоторые просто игнорируют его. «Не знаю уж, – пишет один рабочий Ленину, – неужели этот вопрос так важен?» По мере развития событий меньшевики с большевиками то укрепляют свое полуединство, то отходят от него. Большинство членов партии вплоть до 1917 года считают себя просто социал-демократами. И даже в семнадцатом году Ленину потребуется время, чтобы убедить себя: пути назад уже нет.
Россия устремляет взгляд на Восток, проталкиваясь в Азию, закрепляясь в Туркестане и на Памире, претендуя также на Корею. Продолжая при сотрудничестве с Китаем строить Транссибирскую железную дорогу, страна повышает риск конфликта с Японией, которая имеет схожие экспансионистские планы. «Чтобы удержать революцию, – говорит министр внутренних дел России В. К. Плеве, – нам нужна маленькая победоносная война». Что могло стать лучшей мишенью шовинистов, чем «низшая раса» – такая, например, как японцы, которых сам царь Николай II называет «обезьянами»?
В 1904 году начинается Русско-японская война.
Императорский режим, обманывая сам себя, настроен на легкую победу. Однако его армия слабо обучена, плохо вооружена, страдает от некомпетентности командования – и, как результат, в августе 1904 года разгромлена при Ляояне, в январе 1905-го – в Порт-Артуре, в феврале 1905-го – при Мукдене, а в мае 1905-го – в Цусимском сражении. К осени 1904 года даже боязливая либеральная оппозиция подает голос. После поражения при Ляояне журнал «Освобождение», который шесть месяцев назад восклицал «Да здравствует армия!», осуждает экспансионизм как причину войны. Через местные органы самоуправления, земства, либералы организуют банкетную кампанию – щедрые ужины, которые завершаются смелыми тостами за реформы. Это было пассивно-агрессивным проявлением политической активности. На следующий год антирежимная оппозиция становится активной настолько, что Николай II вынужден пойти на уступки. Однако волна протеста нарастает независимо от деятельности либералов и захватывает как крестьянство, так и беспокойный рабочий класс.
Одно из созданных в русле «полицейского социализма» обществ, «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», возглавляет бывший священник при тюремной церкви пересыльной тюрьмы Георгий Гапон, весьма неординарная личность. По выражению Надежды Крупской, большевички, жены Ленина, этот человек с суровыми чертами лица «по натуре был не революционером, а хитрым священником… готовым на любые компромиссы». И в то же время отец Гапон был настоятелем сиротского приюта, пропагандировал толстовские идеи о необходимости заботы о бедных. Его теологические теории и проекты – религиозно-этические, пронизанные мистикой и реформистскими настроениями одновременно – сумбурны, но искренни.
В конце 1904 года были уволены четверо рабочих крупного Путиловского металлургического и машиностроительного завода, на котором работают более 12 тысяч человек. На собраниях в поддержку уволенных, организованных их товарищами по работе, ошеломленный отец Гапон обнаруживает листовки, призывающие к свержению царя. Он рвет их, поскольку подобные призывы не входили в его планы. Наряду с этим петицию рабочих, призывающую к восстановлению уволенных, он дополняет требованиями повысить заработную плату, улучшить условия труда, ввести восьмичасовой рабочий день. Более левые, чем он, радикалы добавляют в петицию также требования, выходящие за рамки экономических: это были требования свободы собраний и печати, отделения церкви от государства, прекращения Русско-японской войны, созыва Учредительного собрания.
3 января 1905 года объявлена всеобщая общегородская забастовка. Очень скоро прекращают работу от 100 до 150 тысяч человек.
Воскресенье, 9 января. В морозной предрассветной мгле собираются демонстранты. Многочисленная группа рабочих направляется из Выборгского района к роскошной резиденции монарха – находящемуся в самом центре города Зимнему дворцу, чьи окна выходят на место слияния Невы и Малой Невы, собор Петропавловской крепости и Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова.
Реки скованы льдом. Демонстранты спускаются на лед с северного берега Невы. Десятки тысяч рабочих вместе с семьями, дрожащими от холода в своих обносках, начинают шествие, неся иконы и кресты и распевая псалмы. Во главе идет отец Гапон в церковном облачении с петицией к царю. «Государь!» – обращаются к царю авторы петиции, умоляя своего «отца» Николая II (и перемешивая лесть с радикальными требованиями) дать им «правду и защиту» от «капиталистов», «грабителей русского народа».
Власти могли бы без труда умиротворить такую оппозицию, однако они предпочитают прибегнуть к неоправданно жестоким мерам. Тысячи солдат выстроены в полной готовности.
Когда демонстранты приближаются, их атакуют казаки с шашками наголо. Многие в замешательстве разбегаются. Перед оставшимися стоят царские войска. Демонстранты не хотят расходиться. Тогда солдаты поднимают на изготовку ружья и открывают огонь. Одновременно налетают казаки, начинают избивать людей нагайками. От крови начинает таять лед. Обезумевшие люди кричат, мечутся и падают.
Когда кровавая бойня завершается, на снегу остаются лежать 1500 погибших. Это было Кровавое воскресенье.
Влияние этих событий на общественное мнение и на историю огромно. Поднимается гигантская волна изменений в народных настроениях. В тот день картина мира Гапона полностью изменилась. По словам Надежды Крупской, «обвеянный дыханием революции» Георгий Гапон кричал в толпе выживших демонстрантов: «У нас больше нет царя!»
⁂Этот день ускоряет приход революции. Новости о Кровавом воскресенье стремительно распространяются по железной дороге, летят по российским просторам в поездах, везде вызывая ярость и гнев.
По всей Российской империи разражаются стачки. Они охватывают и новые профессиональные группы: служащих, работников гостиниц, извозчиков. Последуют новые стычки с властями и новые смерти: около 500 человек погибают в Польше в Лодзи, около 90 – в Варшаве. В июне вспыхивает восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»; причиной становится возмущение матросов тем, что их кормили испорченным мясом. В ноябре военные бунты происходят также в Кронштадте и Севастополе.
Царский режим неистовствует. Он пытается сочетать уступки с репрессиями. Революция не только вызывает жестокие репрессии со стороны властей, но и пробуждает традиционный садизм крайне правых сил, при негласной поддержке государства.
За два года до того, в 1903 году, бессарабский город Кишинев пострадал от первого в XX веке еврейского погрома. В течение 36 часов банды мародеров при попустительстве полиции и с благословения православных епископов вели кровавую бойню. Евреев, и взрослых, и детей, подвергали пыткам, насиловали, калечили, убивали. Одному ребенку отрезали язык. Убийцы вспарывали своим жертвам животы и запихивали туда перья. Погиб 41 человек, почти 500 были ранены. Как заметил один из журналистов, большинство граждан, не являющихся евреями, не выразили в этой связи «ни сожаления, ни раскаяния».
Признавая страдания кишиневских евреев, многие при этом утверждали, что те сопротивлялись недостаточно активно. Этот «позор покорности» привел к критическому анализу поведения еврейства еврейскими радикалами. Теперь, в апреле 1905 года, когда украинские евреи Житомира узнают о подготовке очередного погрома, они готовы дать достойный ответ: «Мы покажем, что Житомир – не Кишинев». И когда евреи действительно оказывают убийцам ожесточенное сопротивление (тем самым удается сократить материальный ущерб и количество смертей), это вдохновляет еврейскую организацию Бунд выступить с заявлением: «Времена Кишинева безвозвратно канули в прошлое».
Но Бунд, к большому сожалению, ужасающе ошибся.
Еврейский погром в Житомире был организован черносотенцами. «Черные сотни» – обобщающее название различных протофашистских, крайне правых объединений, возникших в ходе событий 1905 года как реакция на революцию. Они используют некоторые популистские лозунги, агитирующие за перераспределение земли, защиту монархии и самодержавного царя (Николай II – почетный член некоторых черносотенных объединений). Наряду с этим их отличительная черта – звериная ненависть к национальным меньшинствам, «нерусским», и особенно к евреям. Они набирают банды уличных головорезов и приобретают множество высокопоставленных сторонников, среди которых можно, к примеру, упомянуть депутатов Государственной думы Александра Дубровина и Владимира Пуришкевича. Дубровин возглавляет массовую черносотенную организацию «Союз русского народа», сторонник экстремистских насильственных методов и расистской идеологии, бросил врачебную практику ради борьбы с «мерзостью либерализма». Владимир Митрофанович Пуришкевич – заместитель председателя «Союза русского народа». Будучи яркой личностью, отличается бесстрашием и эксцентричностью на грани психического расстройства. Еврейский писатель Шолом-Алейхем характеризовал его как «жестокого злодея» и «самодовольного индюка». Владимир Пуришкевич искренне верит в самодержавие, дарованное России свыше. Некоторые черносотенцы, например члены секты, известной как иоанниты (последователи Иоанна Кронштадтского), приправляют свою расовую ненависть исступленной религиозностью, направляя православный энтузиазм против «христоубийц» и ставя безумные идеи о кровожадных евреях, иконы, эсхатологию и мистицизм на службу своим безнравственным целям.
В октябре черносотенцы совершают массовое убийство в космополитичной Одессе, погибают более 400 евреев. В Томске погромщики блокируют все входы и выходы в доме, где проходит собрание, поджигают его и, ликуя, живьем сжигают десятки жертв, подливая в огонь бензин. Свидетелем этого злодейства стал подросток Наум Габо, которому удалось спастись. Много лет спустя, будучи уже взрослым и став к тому времени ведущим скульптором своего поколения, он напишет: «Не знаю, могу ли я передать словами весь тот ужас, который охватил меня и овладел моей душой».
Этот разгул черносотенцев продлится еще многие годы.
Пока реакционные силы продолжают творить свои кровавые дела, царь колеблется, пытаясь найти компромисс. В августе 1905 года Николай II объявляет о создании Государственной думы как «законосовещательного» органа. Но сложная система выборов в Государственную думу отдает предпочтение крупным собственникам, народные массы этим недовольны. Портсмутский договор завершает Русско-японскую войну на достаточно мягких для России (с учетом обстоятельств) условиях. Тем не менее авторитет государства за рубежом и в самой стране, среди всех классов и сословий, упал.
Революционные выступления вызываются порой странными поводами. В октябре 1905 года возникший в Москве конфликт, касающийся пунктуации, открывает заключительный акт этого насыщенного революционными событиями года.
Московские наборщики получают оплату за каждую букву. Теперь же рабочие издательского дома Сытина требуют платить и за знаки препинания. Малопонятное со стороны, это типографское восстание вызывает волну симпатии, проявившейся в организации забастовок поддержки, в которых принимают участие пекари и железнодорожники, служащие некоторых финансовых учреждений. Танцоры Имперского балета отказываются выступать. Закрываются заводы и магазины, стоят трамваи, юристы прекращают вести дела, присяжные заседатели – выслушивать. Поезда на железных дорогах замерли, железнодорожные нервы страны замерзли. В Маньчжурии застряли крупные (до миллиона человек) войсковые силы. Забастовщики требуют пенсионного обеспечения, достойной оплаты труда, проведения свободных выборов, амнистии политзаключенных и создания представительного органа – Учредительного собрания.
13 октября по инициативе меньшевиков в Санкт-Петербургском технологическом институте собираются около 40 представителей рабочих, эсеров, меньшевиков и большевиков. Рабочие голосуют за их избрание при норме представительства один депутат от 500 человек. Они называют это собрание русским словом «Совет»[3], которому суждена долгая жизнь не только в России.
В течение трех месяцев (пока массовые аресты не положили этому конец) Петербургский совет распространяет свое влияние в народных массах, существенно укрепляя позиции за счет привлечения в свои ряды множества активистов, заявляет права на широкие полномочия. Он устанавливает сроки забастовок, контролирует телеграфную связь, рассматривает общественные петиции, выступает с публичными призывами. Один из его руководителей – молодой революционер Лев Бронштейн, вошедший в историю как Лев Троцкий.
Льва Троцкого трудно любить, но невозможно не восхищаться им. Он одновременно харизматичен и резок, ярок и убедителен, коварен и неуживчив. Он может быть неотразимым, а может становиться холодным и даже жестоким. Лев Давидович Бронштейн был пятым ребенком (из восьми) в обеспеченной еврейской семье, которая не отличалась строгой религиозностью и проживала на одном из хуторов Херсонской губернии. Революционер с семнадцати лет, после короткого увлечения народничеством приходит к марксизму и попадает в тюрьму. Фамилию «Троцкий» он позаимствовал в 1902 году от одного из надзирателей одесской тюрьмы. Льва Троцкого называли «ленинской дубинкой», однако на бурном II съезде РСДРП летом 1903 года он занимает сторону меньшевиков, с которыми, впрочем, вскоре порывает. В течение следующих «внефракционных» лет он неоднократно ведет с Лениным раздраженную полемику по разным вопросам.









