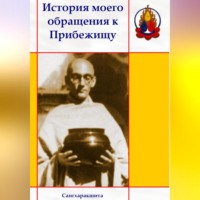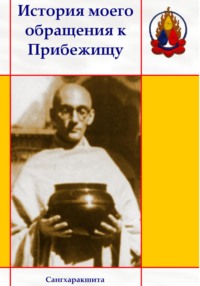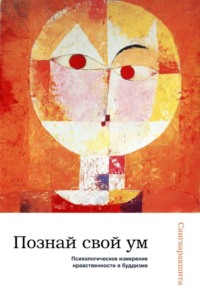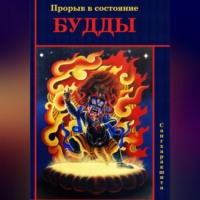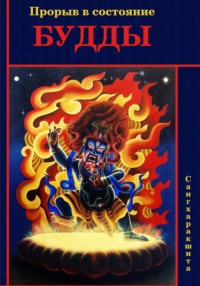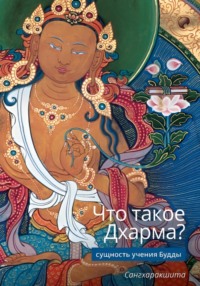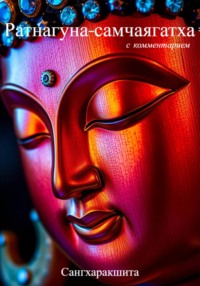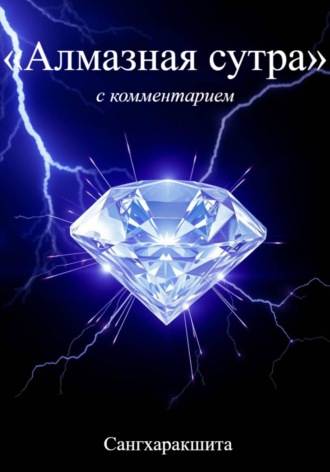
Полная версия
«Алмазная Сутра» с комментарием

Сангхаракшита (Деннис Лингвуд)
«Алмазная Сутра» с комментарием
Введение
Ужасно, страшно попасть в руки «Алмазной Сутры» – потому что, будучи однажды пойманы, вы пойманы навсегда. Увиливайте сколько хотите – вы не освободитесь.
Вовсе не интуитивное озарение привело меня к «Алмазной Сутре» летом 1942 года. Тогда мне было около семнадцати, я все еще жил в Лондоне, хотя вскоре меня призвали в войска связи и отправили в Индию, и читал все восточные учения и их переводы, в особенности по буддизму, которые я мог достать. Таким образом, «Алмазная Сутра» рано или поздно должна была попасть мне в руки – или, скорее, я должен был попасть в руки «Алмазной Сутры». Когда я познакомился с ней, эта сутра – наряду с «Сутрой помоста» (которую по незнанию часто называют «Сутрой Вей Ланга») – произвела на меня поистине огромное впечатление. Я называю это впечатлением, но это был скорее удар. Само первое прочтение этих двух текстов стало потрясающим духовным переживанием, которое изменило ход всей моей жизни – или, возможно, стоит сказать, что это впервые заставило меня понять, каков на самом деле ход моей жизни. Это заставило меня понять, что я буддист – чтобы это ни значило.
«Алмазная Сутра», конечно, не нуждается в моей (или чьей-то еще) личной рекомендации для того, чтобы привлечь внимание любого, кто живо интересуется буддизмом. Это один из самых ценных духовно буддийских текстов и также один из самых известных. В Китае, Тибете, Монголии, Корее и Вьетнаме «Алмазную Сутру» читают ежедневно, комментируют, объясняют и интерпретируют. Это важная струя в потоке буддизма Махаяны. Короче говоря, пока мы хотя бы немного не познакомимся с этой великой работой, в нашем знании буддизма будет зиять дыра.
Буддистам на Западе, без сомнения, есть на что пожаловаться. Наши работодатели обычно не настолько сочувственно относятся к необходимости ретритов, чтобы оплатить нам трехмесячный отпуск, когда мы хотим отправиться медитировать. У нас нет больших монастырей, полных монахов, нет вдохновенных буддийских процессий на улицах Лондона, нет публичных празднований в дни полнолуний, нет площадок для кремаций для визитов в лунные ночи… Но есть хотя бы одна вещь, на которую мы не можем пожаловаться. Мы не можем пожаловаться на недостаток переводов «Алмазной Сутры».
Первые европейские переводы, сделанные примерно в 1830-х, были с китайских или тибетских версий текста, которые в свою очередь были переведены с санскрита. Вместо того, чтобы полагаться на эти дважды переведенные версии, очевидно, лучше придерживаться переводов с оригинального санскритского текста, копии которого были обнаружены в Японии на рубеже столетий. Среди английских переводов с санскрита самым лучшим считается довольно близкая к тексту версия Эдварда Конзе, опубликованная в Риме в 1957 году. Семинар, на основе которого был опубликован этот комментарий, лучше изучать вместе с более доступной и хрестоматийной лондонской версией перевода Конзе, опубликованной в мягком переплете в 1980 году Джорджем Алленом и «Анвином». Хотя этому переводу недостает научного аппарата римского издания, он сопровождается комментарием, который дает обычному читателю возможность более доступного понимания текста. Комментарий Конзе основан, в свою очередь, на комментариях Асанги, Васубандху и Камалашилы, а местами – и на комментариях к обширным сутрам Праджняпарамиты Нагарджуны и Харибхадры.
Полное название этого труда – «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра». «Чхедика» означает «то, что отсекает» или просто «нож». «Ваджра» означает одновременно «алмаз» и «удар молнии»: нечто несокрушимой силы и непреодолимой мощи, что способно сокрушать, сотрясать, превращать в пыль все, что стоит на его пути. Ваджра занимает важное место в буддийском символизме и дает свое имя целому этапу в развитии буддизма – Ваджраяне, Алмазному пути, или пути Удара Молнии.
Следовательно, «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра» обозначает «Проповедь о запредельной мудрости, рассекающей [тьму невежества], как удар молнии». Как можно предположить, это название намекает на смысл и значение сутры в целом. Будучи сутрой, этот текст по определению является «Буддавачаной», словом или высказыванием Будды, так что это выражение Просветленного ума. Оно берет начало не в мозге, не в бессознательном, это не творение какого-то земного, обусловленного сознания. «Алмазная Сутра» – это выражение Просветленного Ума, ума, который един с реальностью и видит ее лицом к лицу.
Читая «Алмазную Сутру», размышляя о ней, медитируя на ней, держа ее в уме, мы обретаем связь с самой реальностью. Свет реальности проникает сквозь плотную завесу нашего неведения, так что запредельная мудрость может озарить косную тьму наших сердец и умов. В то же самое время, запредельная мудрость подобна также алмазу, удару молнии. Она рассекает все наши мысли, все наши идеи, все наши представления о реальности, все наши метафизические допущения. Она разрушает все наши негативные эмоции – наш страх, наше беспокойство, наш гнев, нашу зависть, нашу жадность, наше цепляние, наше страстное желание. Она рассекает все наши виды психологической обусловленности, все наши предубеждения, все наши ограничения, которые возникают в силу нашей принадлежности к той или иной национальности, происхождения из той или иной расы, причастности к определенному социальному кругу, владения определенным языком, проживания в определенной среде…
Эта алмазная молния запредельной мудрости рассеивает все ограничения, которые мешают вам видеть истину лицом к лицу. Прежде всего, она наносит удар вам – тому, каким вы знаете себя в настоящем. Когда вы сталкиваетесь с этой запредельной мудростью, вы чувствуете ее вторжение подобно удару молнии, сокрушающему и разрушающему вас – и это ужасно. Это ужасно – быть пойманным в объятия реальности, ужасно, страшно попасть в руки «Алмазной Сутры», потому что, будучи пойманы однажды, вы пойманы навсегда. Увиливайте сколько хотите – вы не освободитесь.
Готовы ли мы к этому? Если нет, лучше оставить «Алмазную Сутру» собирать пыль на полке. И даже если мы решили позволить ей схватить нас, нам нужно двигаться очень медленно и осторожно, поскольку «род человеческий не может вынести много реальности». Мы способны вынести лишь малую ее долю, на самом деле, если вообще способны, вот почему мы продвигаемся по «Алмазной Сутре» так осмотрительно. На самом деле, не стоит и вопроса о том, чтобы дать полное, систематическое объяснение учений «Алмазной Сутры» во всей ее полноте и глубине: даже если бы такое объяснение было возможно, мы бы просто не вынесли его. Если какой-то Будда или Бодхисаттва пришел и начал просто рассказывать нам, в чем смысл «Алмазной Сутры», нам пришлось бы вызвать машину скорой помощи, чтобы она дежурила рядом.
Если содержание «Алмазной Сутры» опасно для здоровья, стоит также сказать, что попытки прояснить ее форму могут привести нас к головной боли. В то время как оригинальная версия сутры на санскрите – которая, несмотря на всю свою чудовищную репутацию, довольно коротка – развивается непрерывно без разрывов, китайские версии поделены на тридцать две очень короткие главы, собранные в две части. Первая часть льется довольно гладко и завершается достаточно ясным выводом в начале главы 13. Однако вторая часть не такова. Она начинается без видимой причины и на первый взгляд полна бессмысленных повторов, без малейшего явного порядка или последовательности и почти без смысловых переходов от одной темы к другой.
Эта сутра может сбивать с толку, беспокоить, раздражать, дразнить…
Нам нужно принять в расчет возможность, что текст сам по себе был перепутан и в результате перетасовки лишился связности, которой обладал когда-то. Я бы даже осторожно предположил, что вторая часть может представлять собой альтернативную версию первой. Если весь текст – компиляция, возможно, вторая часть – результат ранних, менее удачных попыток, который был добавлен к поздней, более успешной части. Это, в каком-то смысле, почти оскорбительное предположение, и довольно нетрадиционное, но не стоит отвергать его обсуждение по этой причине.
«Алмазная Сутра» дошла до нас в форме, во многом обусловленной случайностями передачи, что означает, что, как и другие буддийские писания, мы не должны принимать ее слишком буквально. Сравните это затруднительное положение с благоприятной ситуацией, которая сложилась для приверженцев других вер. У христиан есть Библия, которую принимают все деноминации. Спустя несколько веков разногласий, добавлений и исключений все они сошлись на каноне книг, которые составляют стандартную Библию, и придерживаются его, не беспокоя себя даже «высшей критикой», которая обнаружила ее вполне человеческое происхождение и развитие. У индуистов есть четыре Веды, которые беспрекословно считаются шрути, или откровениями, наряду с Брахмасутрами и Бхагавадгитой. Мусульмане тоже, можно сказать, хорошо устроились. У них есть одна книга, Коран, текст, который вполне пользуется доверием, несмотря на некоторые обсуждения и споры, так что у них есть небольшой том, не больше Нового Завета, который представляет собой Слово Бога во всей его полноте. У них есть разнообразные комментарии, а также изречения Пророка – тысячи изречений, – но все это совершенно отлично от Корана, который обладает окончательным авторитетом.
У нас, буддистов, нет такого авторитетного руководства. У нас есть целая библиотека книг, и непонятно, где провести черту под тем, что можно было бы назвать «писаниями». У нас есть Палийский канон, сутры Махаяны и тантры – но какой статус придать «Песням Миларепы», например? Все это несколько сбивает с толку. Буддисты школы Нитирэн-сю попытались прояснить положение, выделив один-единственный текст, «Саддхарма-пундарика-сутру», в качестве своего рода Библии – хотя им и не удалось избежать того, чтобы придать особую позицию, по крайней мере, некоторым другим сутрам Махаяны – но этот проект не поддержал весь остальной буддийский мир. И хотя тхеравадинам все же удается придерживаться строго ограниченного ряда буддийских писаний, у них все еще есть несколько полок, которые можно было бы проредить.
Это означает, что у буддистов практически нет шансов впасть в библиофилию. Мы не можем взять книгу и сказать: «Истина была записана, она нашла выражение в строгой словесной форме, и вот эта истина, все, что вам нужно для спасения, все здесь». Собирая по кусочкам многие источники, сравнивая их, мы вынуждены вырабатывать истину самостоятельно. Помимо того, что это неплохое упражнение для ума, это также помогает нам поддерживать ощущение духовной соразмерности и ограждает от фанатизма и догматичности. У вас может быть любимый текст – целые школы вырастали вокруг определенных текстов – но это совершенно другой вопрос. В буддизме нет «символов веры». (Кристмас Хамфрис однажды составил своего рода «символ веры» в виде своих «Двенадцати принципов», но без особого успеха, особенно в случае с одним или двумя принципами, которые вызывают некоторые вопросы. Пункт насчет «вся жизнь подчинена одному», определенно, считают крайне сомнительным практически все буддисты).
Поэтому есть причина, по которой мы не должны относиться к тексту «Алмазной Сутры» слишком критично. Однако для этого нам нужно быть уверенными, что мы понимаем, с чем имеем дело, и, возможно, будет мудрее оставаться открытыми к возможности, что нам еще не все ясно. Может статься, что связь между различными темами и аргументами и отношения между двумя частями по-прежнему ускользают от всех исследователей сутры. Во второй части темп, несомненно, нарастает. В то время как в первой части есть некая нить линейного развития, за которую мы можем ухватиться, вторая часть более бескомпромиссна, беспорядочна по композиции и полностью лишена каких бы то ни было попыток установить последовательность. Но стоит ли нам делать из этого вывод, что мудрецы и редакторы древности были так глупы, что не замечали то, что нам ясно как день – что вторая часть беспорядочна.
Если мы собираемся принять то, что «доводы» сознательно лишены последовательности, стоит ли нам ждать логики в организации параграфов? В относительном смысле книга линейна, ведь страницы расположены друг за другом или в виде длинной полосы или свитка, так что одна страница следует за другой. Но, если вообразить, что страницы расположены, как буквы на поверхности сферической головки печатной машинки, так что каждая страница может читаться как продолжение любой из страниц, окружающих ее, мы получим более ясное представление о Совершенстве Мудрости. Возможно, «Ваджраччхедика» только кажется непонятной, потому что мы загнаны в рамки лингвистических или типографских условностей, которые требуют, чтобы текст был организован в какой-то одной последовательности. Вряд ли нам стоит ждать, что реальность будет приспосабливаться к этой условности, равно как и к условностям логики.
Один из способов сделать сутру более связной и доступной для понимания – следовать предположению Хань Шаня, который был Просветленным мастером во времена династии Мин в Китае. Согласно ему, утверждения Будды в сутре предназначены для того, чтобы разрешить невысказанные сомнения монаха, Субхути, к которому он обращается – отсюда и очевидный недостаток связности и непрерывности. В своем комментарии Хань Шань вычленяет тридцать пять сомнений: семнадцать грубых сомнений, которые разбираются в первой части сутры, и восемнадцать тонких сомнений, которые раскрываются во второй части. Как толкует сутру Хань Шань, когда все ваши сомнения – включая самое тонкое бессознательное отторжение – отсекаются молниеносным ударом запредельной мудрости, проявляется ваш абсолютный ум, ум высшего Просветления. Это на самом деле единственное прочтение текста, которое, по-видимому, работает.
Однако, в конце концов, если мы настаиваем на соблюдении требований логического ума, мы упускаем суть. «Алмазная Сутра» в действительности пытается донести до нас не систематическое исследование, а ряд сокрушительных ударов, наносимых то с одной, то с другой стороны, чтобы попытаться проломиться через наши фундаментальные заблуждения. Она не предназначена для того, чтобы облегчить восприятие логическому уму и облечь суть в логическую форму. Эта сутра может сбивать с толку, беспокоить, раздражать, дразнить – и, возможно, не стоит ждать от нее ничего иного. Если бы она была аккуратно и ясно устроена, и концы сходились бы с концами, перед нами возникла бы опасность счесть, что мы уловили Совершенство Мудрости.
Алмазная сутра
Почтение Совершенству Мудрости, Великолепной, Святой!
Введение1. Так я слышал однажды: Владыка пребывал в Шравасти, в роще Джета, в саду Анатхапиндики, вместе с великим собранием, состоящим из 1250 монахов, и со многими Бодхисаттвами, великими существами. Рано утром Владыка оделся, надел накидку, взял чашу и пошел в великий город Шравасти за подаянием. Насытившись и вернувшись с обхода за подаянием, Владыка отложил накидку и чашу, омыл ноги и сел на месте, устроенном для него, скрестив ноги и выпрямив тело, и сосредоточил внимание перед собой. Тогда многие монахи подошли к месту, где сидел Будда, приветствовали его, коснувшись его ступней головой, трижды обошли его посолонь и сели по одну сторону от него.
2. В то время Досточтимый Субхути прибыл в это собрание и сел. Затем он поднялся с места, закинул край накидки на одно плечо, поставил правое колено на землю, смиренно склонил главу пред Благодатным и, сложив ладони, обратился к нему так: «Чудесно, о Владыка, чудесно, Вышедший за пределы, как Бодхисаттвам, великим существам, оказывает высочайшую помощь Татхагата, Архат, Полностью Просветленный. Чудесно, о Владыка, как щедро Бодхисаттвы, великие существа, одарены высочайшей милостью Татхагаты, Архата, Полностью Просветленного. Как же тогда, о Владыка, должно сыну или дочери хорошего семейства, которые вступили в колесницу Бодхисаттв, устоять, как продвигаться, как контролировать свои мысли?
После этих слов Владыка сказал Досточтимому Субхути: «Хорошо сказано, хорошо сказано, Субхути! Все так, Субхути, все так, как ты сказал! Татхагата, Субхути, помогал Бодхисаттвам, великим существам, оказывал им величайшую помощь и одарял их высочайшей милостью. Теперь, Субхути, слушай, и слушай внимательно! Я научу тебя, как те, кто вступил в колесницу Бодхисаттв, должны устоять, как им продвигаться, как контролировать свои мысли». «Да будет так, о Владыка», ‒ ответил Досточтимый Субхути и стал слушать.
Путь Бодхисаттвы3. Владыка сказал: «Так, Субхути, тот, кто вступил в колесницу Бодхисаттв, должен создавать в уме подобную мысль: «Сколь много пребывает во вселенной существ и понимается под словом «существа» – рожденных из яйца, из утробы, из влаги или чудесным образом, с формой или без формы, с восприятием или без восприятия, или одновременно с восприятием и без восприятия, – сколь много любых мыслимых существ ни мыслилось в какой бы то ни было форме, всех их я должен привести к Нирване, в то измерение Нирваны, которое ничего не оставляет позади. И все же, хотя бесчисленные существа ведомы таким образом к Нирване, ни одно существо не ведомо к Нирване». А почему? Если в Бодхисаттве возникнет понятие о «существе», его нельзя будет назвать «существом Бодхи». А почему? Не назовешь того существом Бодхи, в котором возникает понятие о самости, или о существе, или понятие о живой душе, или о человеке.
4. Более того, Субхути, Бодхисаттва, который совершает даяние, не должен опираться ни на что материальное, не должен опираться и ни на что иное. Когда он совершает даяния, ему не должны служить опорой видимые объекты, не должны служить опорой и звуки, запахи, вкусы, прикосновения или объекты ума. Ибо, Субхути, Бодхисаттва, великое существо, должен совершать даяния таким образом, чтобы не опираться на понятие о знаке. А почему? Потому что множество заслуг этого существа Бодхи, который, не опираясь ни на что, совершает даяние, непросто измерить. Как ты думаешь, Субхути, протяженность пространства на Востоке легко измерить? Субхути ответил: «Воистину нет, о Владыка». Владыка спросил: «Подобно этому, легко ли измерить протяженность пространства на юге, западе или севере, вверху и внизу, в промежуточных направлениях, во всех десяти направлениях всех сторон? «Субхути ответил: «Воистину нет, о Владыка». Владыка сказал: «Точно так же множество заслуг того существа Бодхи, которое, не опираясь ни на что, совершает даяние, непросто измерить. Вот почему, Субхути, те, кто вступил в колесницу Бодхисаттвы, должны совершать даяния, не опираясь на понятия о знаке.
5. Владыка продолжил: «Как ты думаешь, Субхути, можно распознать Татхагату по обладанию его знаками?» Субхути ответил: «Воистину нет, о Владыка. А почему? То, чему учил Татхагата, как обладанию знаками, на самом деле совсем не обладание знаками». Владыка сказал: «Там, где существует обладание знаками, существует обман, там, где нет обладания и нет знаков, нет обмана. Поэтому Тахтагату видят по отсутствию знаков, как по знакам».
6. Субхути спросил: «Появятся ли в будущем существа, в последние времена, в последнюю эпоху, в последние пятьсот лет, во времена упадка благого учения, которые, когда слова этой сутры будут преподаны, поймут ее истину?» Владыка ответил: «Не говори так, Субхути! Да, даже тогда будут такие существа. Потому что даже в те времена, Субхути, будут Бодхисаттвы, одаренные благим поведением, одаренные добродетелями, одаренные мудростью, которые, когда слова этой сутры будут преподаны, поймут ее истину. И этим Бодхисаттвам, Субхути, будет оказывать почтение не один Будда, не один Будда будет взращивать корни их заслуг. Напротив, Субхути, тем Бодхисаттвам, которым, когда слова этой сутры будут преподаны, придет хотя бы одна мысль, исполненная невозмутимой веры, будут оказывать почтение многие сотни тысяч Будд, и многие сотни тысяч Будд будут взращивать корни их заслуг. Они известны Татхагате, Субхути, силой его восприятия Будды, они видны Татхагате, Субхути, силой его ока Будды, они полностью известны Татхагате, Субхути. И все они, Субхути, обретут и примут неисчислимое и неизмеримое множество заслуг.
А почему? Потому, Субхути, что у этих Бодхисаттв (1) нет понятия самости, (2) не нет понятия существа, (3) нет понятия души, (4) нет понятия человека. Нет у этих Бодхисаттв и (5) понятия о дхарме, или (6) понятия о не-дхарме. (7) Нет понятия и (8) нет отсутствия понятия.
А почему? Если, Субхути, у этих Бодхисаттв было бы понятие о дхарме или о не-дхарме, они бы тогда успокоились на самости, существе, душе или человеке. А почему? Потому что Бодхисаттва не должен успокаиваться ни на дхарме, ни на не-дхарме. Значит, Татхагата преподал это изречение со скрытым смыслом: «Те, кто постиг, что проповедь дхармы подобны плоту, должен оставить дхармы, равно как и не-дхармы».
7. Владыка спросил: «Как ты думаешь, Субхути, есть ли какая-то дхарма, которую полностью постиг Татхагата, как «высшее, верное и совершенное просветление», есть ли дхарма, которую явил Татхагата?» Субхути ответил: «Нет, насколько я понимаю сказанное Владыкой. Почему же? Эту дхарму, которую полностью постиг или явил Татхагата – ее нельзя уловить, о ней нельзя говорить, это не дхарма и не не-дхарма. Почему же? Потому что абсолютное возвышает святых.
8. Затем Владыка спросил: «Как ты считаешь, Субхути, если сын или дочь благородного семейства наполнили мировую систему, состоящую из тысячи миллионов миров, семью драгоценными качествами, а затем преподнесли их в дар Татхагатам, Архатам, Полностью Просветленным, обретут ли они силой этого великое множество заслуг?» Субхути ответил: «Великий Владыка, Великий, Вышедший за пределы, велико будет это множество! Почему же? Потому что Татхагата говорил о «множестве заслуг» как о «не-множестве». Так Татхагата говорит о «множестве заслуг». Владыка сказал: «Но если кто-то еще должен был бы воспринять из этой проповеди дхармы лишь одно четверостишие, и явил бы и прояснил его во всех деталях другим, он обрел бы силой этого еще большее множество заслуг, неизмеримых и неисчислимых. Почему же? Потому что из этого проистекает высшее, верное и совершенное просветление Татхагат, Архатов, Полностью Просветленных, и так возникают Будды, Владыки. Почему же? Потому что Татхагата учил, что дхармы, особые для Будд, это не просто особые дхармы Будд. Вот почему они называются «дхармы, особые для Будд».
Направление духовной жизни9. Владыка спросил: «Как ты думаешь, Субхути, приходит ли на ум Вступившему в Поток: «Мною достигнут плод вступившего в поток»?» Субхути ответил: «Воистину нет, о Владыка! Почему же? Потому что, о Владыка, он не обрел никакой дхармы. Поэтому его называют Вступившим в Поток. Он не обрел ни объекта зрения, ни звука, ни запаха, ни вкуса, ни осязаемого, ни объекта ума. Вот почему его называют «Вступившим в Поток». Если бы, о Владыка, на ум Вступившему в поток пришло бы: «Мною достигнут плод Вступившего в Поток», это было бы для него успокоением на самости, успокоением на существе, успокоением на душе, успокоением на человеке. Владыка спросил: «Как ты думаешь, Субхути, приходит ли на ум Однажды Возвращающемуся: «Мною достигнут плод Однажды Возвращающегося»?» Субхути ответил: «Воистину нет, о Владыка! Почему же? Потому что, о Владыка, Однажды Возвращающийся не обрел никакой дхармы. Поэтому его называют «Однажды Возвращающимся». Владыка спросил: «Как ты думаешь, Субхути, приходит ли на ум Невозвращающемуся: «Мною достигнут плод Невозвращающегося»?» Субхути ответил: «Воистину нет, о Владыка! Почему же? Потому что, о Владыка, нет никакой дхармы, посредством которой обретается Невозвращение. Поэтому его называют «Невозвращающимся». Владыка спросил: «Как ты думаешь, Субхути, приходит ли на ум Архату: «Мною достигнут плод Архата»?» Субхути ответил: «Воистину нет, о Владыка! Почему же? Потому что, о Владыка, нет никакой дхармы под названием «Архат». Вот почему его называют Архатом. Если бы, о Владыка, Архату на ум пришло «Мною достигнуто состояние Архата», это было бы для него успокоением на самости, успокоением на существе, успокоением на душе, успокоением на человеке. Почему же? Я, о Владыка, тот, на которого Татхагата, Архат, Полностью Просветленный указал как на первого из тех, кто пребывают в Покое. Я, о Владыка, Архат, свободный от жадности. И все же, Владыка, мне на ум не приходит: «Я Архат и я свободен от жадности». Если, о Владыка, мне бы пришло на ум, что я достиг состояния Архата, тогда Татхагата не сказал бы обо мне «Субхути, этот сын благородного семейства, первый из тех, кто пребывает в Покое, не пребывает нигде, вот почему его называют «пребывающий в Покое, пребывающий в Покое».
10. Владыка спросил: «Как ты думаешь, Субхути, есть ли дхарма, которую Татхагата усвоил от Дипанкары, Татхагата, Архат, Полностью Просветленный?» Субхути ответил: «Воистину нет, о Владыка».