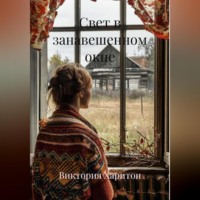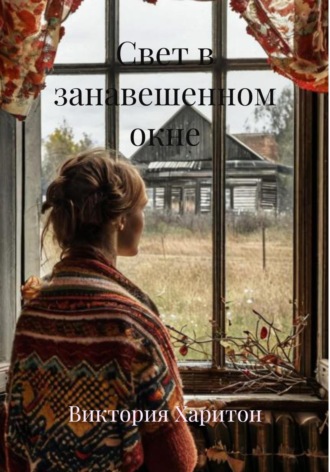
Полная версия
Свет в занавешенном окне
В один день ей стало плохо. Сердце сжалось. Она поняла: время.
Она легла. Взяла письмо. То самое, что писала Степану – и так и не решилась отправить.
Она читала его себе вслух. И с каждым словом будто возвращалась к той – живой – себе. К себе, которой не дали быть.
В последние минуты она вспомнила не боль, не усталость.
А то, как он ел её хлеб. Как касался её руки. Как молчали, лежа рядом, когда даже ветер не смел дышать.
И улыбнулась.
Когда её нашли, на столе стояла чашка молока и кусок хлеба. А рядом – письмо. Распахнутое. Почти стертое.
На полях была дописана рука: не дрожащая, а твёрдая.
"Я прожила без любви. Но не без следа.
А может, и это – любовь. Только без слов.
Без права. Но с правдой.
А значит – настоящая."
Иногда любовь – это не быть рядом.
Иногда – не разрушить.
Иногда – просто оставить молоко тёплым. Даже если его никто не выпьет.
Анна и берег
Анна жила у реки.
Дом был небольшой, с покосившейся верандой и грушей, которая каждый год плодоносила только на одной стороне – той, что ближе к солнцу. Сама Анна тоже была такой: немного перекошенная жизнью, но всё равно живая. Тепло – только с одной стороны. Но уж какое было – настоящее.
Она шла по жизни одна. Не вдова. Не оставленная. Просто – не выбрала.
– Как же так, Аня, не замужем? Ни детей, ни мужа, ни даже подружки, с кем поболтать? – спрашивали соседки, добрые в своей простоте.
Анна улыбалась и разводила руками:
– А я – берег. Я никого не держу, только смотрю, как плывут.
А когда-то она любила.
Сильнее, чем следовало. Тогда ей было 20. Его звали Егор. Голос у него был, как мёд с дымом. Он читал стихи. Обещал город, свет, концерты, путешествия. Анна верила.
Он ушёл весной. Сказал – ненадолго. Но не вернулся. Ни письма, ни объяснений. Только как-то по слухам дошло: женился. В Гомеле. На дочери партийного.
Анна не плакала. Только молчала очень долго. Иногда сидела у своей груши, касалась шершавой коры и шептала:
– А ты хоть плод принесёшь. А он – только тень.
С тех пор она никого не подпускала близко.
Мужчины были. Один приносил рыбу, другой – книги, третий – лесть. Но каждый раз, когда кто-то задерживался, в ней просыпался тот старый страх – что снова уйдёт. И не потому, что она плохая. А потому что так бывает.
И она шептала себе:
– Лучше не начинать, чем снова быть забытой.
Она жила просто. Сад. Груша. Козочка. Иногда пела себе под нос старинные белорусские песни. В деревне говорили: «У неё голос, как у колокола – редкий, да по делу».
И действительно, когда она пела, даже птицы замолкали. Словно слушали.
Иногда вечерами она ставила на стол два стакана.
– Это не для кого-то, – говорила. – Это чтобы не забыть, как это – ждать. Хоть бы и никого.
С годами одиночество стало её одеждой. Не тяжёлой. А как домашний халат – удобной, узнаваемой, почти уютной. Она писала в тетрадке стихи, копалась в земле, заваривала травы. И улыбалась чаще, чем женщины с кольцами на пальцах.
Когда ей было уже за 70, к ней приехала журналистка из города. Делала материал о «последней одинокой женщине в деревне».
– Скажите, вы не чувствовали себя несчастной? Без семьи, детей, любви?
Анна посмотрела на неё спокойно. И тихо сказала:
– Несчастной – нет. Одинокой – да. Но ведь это не одно и то же. Быть одинокой – не значит быть пустой. А любовь… она у меня была. Просто короткой. Но осталась внутри.
– Но почему вы больше не пробовали?
– Потому что в тот день, когда он ушёл, я поняла: самое страшное – не быть одной. А быть оставленной. И я выбрала одиночество как щит. Не как тюрьму.
Журналистка ничего не ответила. Только выключила диктофон. И в тот вечер долго сидела на берегу, глядя в реку. Как Анна.
Когда Анна умерла, её дом был как музей простоты: засушенные травы, книги, фото бабушки, и один странный предмет – два стакана на столе. Один – всегда пустой. Другой – с водой, в которой плавала груша.
На полке была записка. Короткая:
«Ожидание – это тоже форма любви.
А одиночество – не страшно, когда оно выбрано.
Я берег. Не мост. Но берег – тоже дом для кого-то».
Соль земли
Гомельская область, 1986 год
Когда взорвалась станция, ветер подул не в ту сторону.
Туда, где деревни жили тише времени. Там, где каждый день похож на предыдущий: куриный крик на рассвете, корова у изгороди, старики на лавке, дети – кто в школу, кто – в поле.
Антонина проснулась, как всегда, в пять. Прислушалась к дому: ничего не капает, печь тёплая, половицы не скрипят – значит, всё правильно. За окнами было слишком тихо. Слишком чисто. Так бывает перед грозой. Или бедой.
Но она не верила в катастрофы. Катастрофы – это то, что случается в книгах. А в жизни – всё идёт, как идёт.
Она прожила здесь всю жизнь. Родилась в этом же доме. Здесь же вышла замуж. Здесь же похоронила мужа. Земля – это не просто место. Это кости под ногами, это дыхание хлеба в печи, это молчание, которое понимает тебя лучше слов.
Когда пришли и сказали: «Эвакуация. Немедленно», она просто вытерла руки о фартук.
– А корову кто увезёт? А козу? А грушу кто польёт?
Молоденький солдат посмотрел на неё растерянно:
– Бабушка, там… радиация. Опасно!
Антонина засмеялась. По-доброму. Устало.
– Смерть – она везде. Только в городе к ней ближе. А тут… если уж умирать, то среди своих стен.
Люди уехали.
Дома опустели.
Крыши начали обрушиваться.
Дороги зарастали.
А Антонина осталась.
Сначала – одна. Потом – одна с животными. Потом – уже не одна.
Потому что сначала к ней пришла женщина с ребёнком. Из Припяти. Молча. Без слов. Только с глазами, в которых был крик.
– Можно? – спросила.
Антонина только кивнула. И поставила на стол третью тарелку. У неё всегда была лишняя. Даже когда некому было её занять.
Потом пришли ещё.
Старики, которым некуда было уезжать. Мать с сыном-инвалидом. Один учитель, который бросил всё в городе. Он говорил:
– Я не могу жить там, где нельзя смотреть в небо.
Антонина не спрашивала, кто откуда. Она встречала всех одинаково: хлеб, молоко, вода из колодца.
– Если ты зашёл – значит, ты нужный, – говорила она. – А я… я тут как соль. Меня не видно, но без меня – всё пресное.
Она не любила говорить о себе.
О том, как хоронить мужа, когда вокруг колхозная пыль. О том, как рожать третьего ребёнка на полу, потому что скорая «не доехала, извините». О том, как кормить детей лебедой. О том, как замерзать в доме, потому что дрова мокрые, а сил – нет.
Но однажды вечером, когда у печи собрались все – стар и млад – она сказала тихо:
– Сила женщины не в том, чтобы выстоять. А в том, чтобы остаться доброй, когда уже не за что.
Тогда в доме стало так тихо, что даже огонь в печке слушал.
Антонина никогда не считала себя сильной.
Она считала себя нужной. А в этом, может, и была её главная сила.
Когда зимой заболела соседская девочка – не врачи спасли её. А отвар из сухих груш, который Антонина давала по ложке. Когда старик потерял речь – она просто сидела рядом. Молчала вместе с ним. И он снова заговорил.
Она не учила. Не проповедовала. Но всё, что делала – учило. Тому, что жизнь держится не на победах. А на упрямом, простом "дальше".
Когда Антонине было 92, она легла спать и больше не встала.
В тот вечер в деревне не лаяли собаки. В небе не было звёзд. Только ветер вишнёвыми ветками стучал в окна.
Её нашли через день. На столе – хлеб. Кувшин воды. И письмо. Небольшое, аккуратно сложенное.
"Если ты читаешь это, значит, я ушла.
Но знай: пока ты делаешь добро – я здесь.
Я – в воде, которую наливаешь чужому.
В хлебе, который режешь не себе.
В тишине, где больше смысла, чем в словах.
Я – соль этой земли. А соль не умирает.
Она просто растворяется – в тех, кто живёт дальше."
Через годы на месте её дома вырос сад. Его никто не сажал – так решили птицы. Или сама земля. И в самом центре стояла скамья. На ней надпись:
«Антонина. Женщина, у которой не было власти,
но было больше силы, чем у всех министров вместе».
Ткань тишины
Север. 1952 год.
Серафима Васильевна не любила слово «срок».
Она говорила:
– Это было не "срок", а зима, которая не кончалась. Только без снега – потому что он там был пепельно-серый, как память о доме.
До лагеря у неё была простая, но теплая жизнь. Дом с зелёными ставнями, в саду вишня, муж – учитель истории, и дочка Варя с золотистыми косичками, вечно испачканными мелом. В райгазете она писала маленькие статьи – про библиотеку, про хлеб, про бабушку, что всю жизнь пела народные песни.
А потом – одна фраза не та. Одна статья, где она осторожно усомнилась в «героизации тишины». И донос. И суд.
"Десять лет без права переписки."
Так просто. Как будто вычёркивают. Как будто не женщина – запятая, которую можно стереть.
Путь на север был как вытянутая смерть. Вагоны. Вонь. Молчание. Женщины – как пустые сосуды: глаза опустошены, тела сжаты, имена – забыты. Только номера. Только вши. Только страх.
В лагере Серафиму определили в швейный цех. Она умела шить – в юности мать учила, «вдруг пригодится». Тогда Сима смеялась:
– Что ты, мам, я буду писать, а не шить.
Но теперь руки шили, а сердце молчало.
В швейке было тепло – это уже считалось роскошью. В цеху пахло пылью, потом и старым деревом. Женщины сидели часами, сгибаясь над ватниками и рукавицами. Кто-то шептал молитвы. Кто-то – считал, сколько дней до смерти.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.