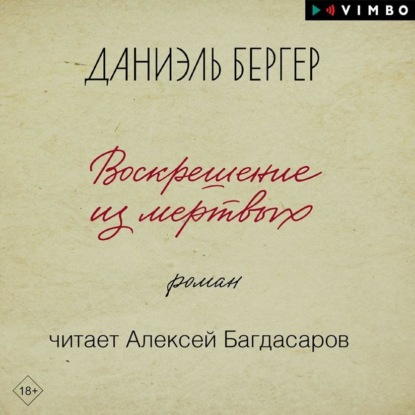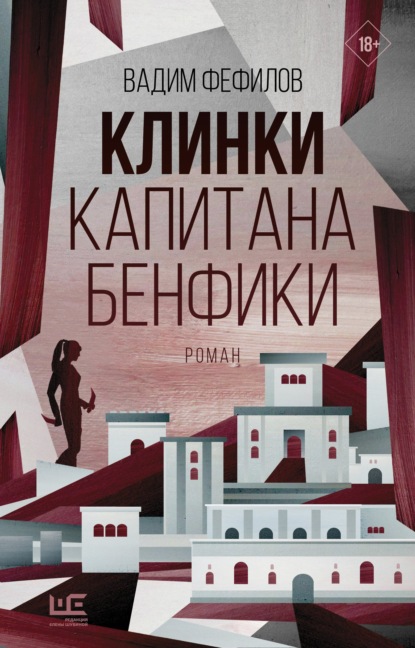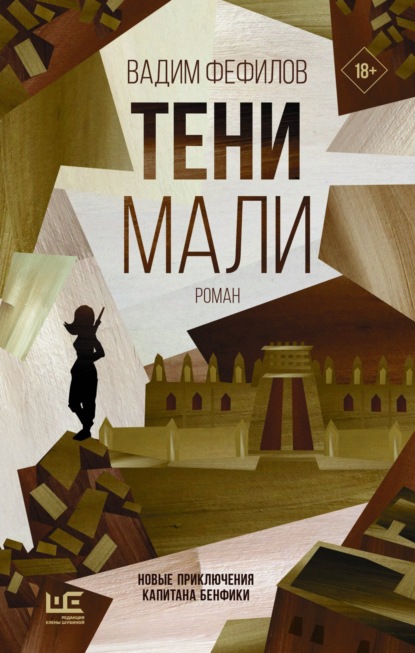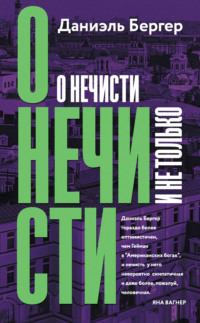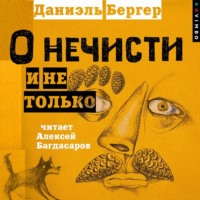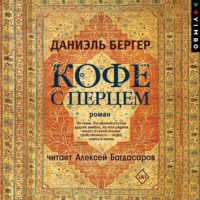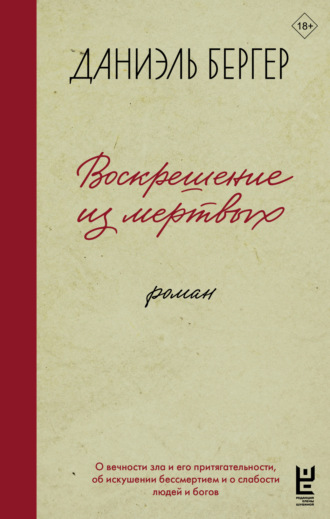
Полная версия
Воскрешение из мертвых
А тут сенсация – при пожаре в архиве местной библиотеки найдены подлинные дневники этого самого Даринского! Вскоре выяснилось, что драгоценная находка пребывает в ужасающем состоянии и транспортировать ее в Новосибирск нет никакой возможности. Знаменитый же столичный реставратор – единственный, которому можно было бы поручить заботу о рукописи, занят другим, не менее важным делом и в ближайший год в сибирский городок не приедет. Вот и пришлось Серафиму Львовичу, как Магомету, самому ехать к рукописи, чтобы уже здесь, заручившись помощью местного фотографа, сделать снимки. В библиотеке же, названной в честь великого народовольца, профессор повелел учинить подробнейшую ревизию в надежде отыскать еще что-нибудь столь же сенсационное. А сам на время ревизии решил поселиться в городе, чтобы в следующей своей книге уделить внимание и художественному описанию родины Даринского, рассказав читателю, по каким улочкам любил гулять этот так и не доучившийся студент, какое впечатление на него произвели в детстве экзекуции ссыльных на местном эшафоте и так далее.
Еще не ознакомившись с рукописью, Серафим Львович уже представлял себе в деталях всё, что там прочтет, благо прочтено им было до этого немало дневников народовольцев, и все они были похожи между собой до неразличимости. Но в дневнике Даринского ждала его сенсация, а вернее, и не сенсация даже, а какая-то тайна – рукопись, хоть и была на русском языке и состояла из понятных большей частью слов, смысл являла собой совершенно необыкновенный. Необыкновенный и до того неслыханный, что у несчастного профессора при чтении начиналась мигрень. Не веря собственным глазам, пересматривал Серафим Львович фотографические снимки и всё пытался объяснить написанное – то ли это такие литературные опыты, то ли народоволец использовал тайный шифр, то ли рукопись вообще неверно атрибутирована… Всё напрасно! Выходило по всему, что рукопись эта подлинная, того самого Даринского, фантастическим романом не является и ни на один известный профессору шифр не походит. И получается, что… Ничего не получается! Будь на месте Серафима Львовича какой-нибудь другой специалист по народовольцам, он бы, пожалуй, и мог придумать объяснение – неправильное, неправдоподобное, но политически верное, и искренне отстаивал бы его перед научной общественностью. Но Серафим Львович так не мог…
Дело в том, что много лет назад, еще когда кудри на голове профессора были черными и знакомые девушки звали его не по имени-отчеству, а Серафимушкой или даже Симочкой, в общем, годах в двадцатых-тридцатых, никакими народовольцами Серафим Львович не занимался, а был молодым, подающим надежды ассириологом. И не где-то в Сибири, при университете, больше славящемся своими физиками, чем лириками, а в самом Ленинградском государственном университете! Знаком он тогда был и с Шилейко, и с Рифтиным, и со Струве, а с последним даже дискутировать решался, несмотря на разницу в возрасте… Но году в тридцать пятом началось на кафедре неладное: то один преподаватель не выйдет с утра на работу, то другого заберут прямо во время обеда…
Завкафедрой, нагружая молодого Серафима Львовича дополнительными преподавательскими часами, грустно пошутил: «Этак вы у нас скоро старейшим преподавателем станете», а на следующий день и сам пропал.
«Э-э-э-э, – смекнул молодой человек. – Керосином дело попахивает! Как бы и за мной чего не нашли». Собрав чемодан, Серафим Львович сдал ключ от комнаты коменданту и отбыл в неизвестном направлении, чтобы через месяц, уже числясь при Новосибирском университете, начать писать монографию об истории народовольческого движения. Спешно женившись и взяв фамилию жены, Серафим Львович выбросил в корзину все научные достижения, принесшие ему известность под другой, опасной фамилией, и зажил тихой жизнью провинциального преподавателя, ни в чем предосудительном не участвующего, а потому ни в чем таком и не замеченного.
Но воспоминания, воспоминания-то об увлечениях юности, о вечерах в холодной, прокуренной комнате Шилейко, где из темноты звучал голос притягательной и недоступной Анны Андреевны: Enūma eliš lā nabû šamāmū šapliš ammatu šuma lā zakrat[1]… Воспоминания эти – их куда выбросишь? Так и жил с ними Барский. И теперь, встретив до ужаса знакомые слова в проклятом дневнике, не знал, что и думать…
С каждым днем профессор все меньше времени проводил с рукописью, а все больше гулял или просто сидел перед окном, размышляя, как бы подать эту рукопись научному сообществу. Ведь и не спрячешь ее уже! Как же нехорошо-то…
Вот от этого «нехорошо» прячась, и решил Серафим Львович отвлечься, занять ум какой-нибудь детективной историей. Иные, простые люди в таких случаях открывают книжку, находя утешение в вымышленных преступлениях и хитроумных сыщиках. Но Серафим Львович был, вне всякого сомнения, личностью выдающейся – он решил стать и автором, и главным героем происходящего расследования.
Для начала Алик в свой единственный выходной был отправлен по известным уже адресам на улице Ленина и Первомайской. Перед этим профессор заставил его выучить список вопросов, которые нужно было задать родственникам и соседям умерших, смотря по обстоятельствам. Вопросы эти касались всех сторон жизни – от материального положения до романтических увлечений (учитывая возраст погибших, профессор не исключал и некоего шекспировского здесь сюжета).
Результатов опроса Серафим Львович ждал с неожиданным для себя нетерпением. Он ходил по комнате из угла в угол, по-наполеоновски заложив одну руку за борт жилета, часто курил и поглядывал на часы.
Наконец пришел Алик. Но сведения, им собранные, оказались крайне неудовлетворительными – формальными какими-то. Вроде бы аккуратно всё записано: с кем встречались, чем увлекались, как часто выпивали, а цельной картины никак из этого не вырисовывалось. Поскрипел зубами профессор, читая отчет, но ругать Алика не стал. Понял, боится тот, что слухи об учиненных расспросах до начальства дойдут, вот и не проявляет энтузиазма. Но ничего, решил Серафим Львович, для систематизации сведений сгодится. А на следующий день, прямо с утра, отправился на улицу Ленина сам.
⁂В двухэтажном, дореволюционной еще постройки доме № 3 было восемь квартир. В темном подъезде при входе встретилась профессору пожилая дама. Именно дама, в этом уж он разбирался: шея прямая, гордая, лицо узкое и надменное, а взгляд… б-р-р-р! Знакомыми показались Серафиму Львовичу эта дама и этот взгляд, но обстоятельств знакомства он так и не припомнил, успокоив себя тем, что, должно быть, на рынке как-то сталкивались. Дама слегка кивнула в ответ на учтивый поклон профессора, как бы тоже выражая узнавание, и прошествовала к выходу.
Дверь в квартире погибшего Василенко открыла еще одна старуха, но совсем другого рода. Это была маленькая, бойкая и опрятная деревенская старушечка, пахнущая яблоками и душицей. Из-за спины ее выглядывали два мальчика лет трех и пяти. Серафим Львович тут же сообразил, что перед ним бабка того самого Василенко, и представился профессором из Новосибирска и доктором наук. Слово «исторических» он намеренно опустил, полагаясь на то, что бабка сама домыслит его причастность к медицине. Так и вышло. Старушка сразу собралась и отвечала на все вопросы Серафима Львовича обстоятельно, не спеша и с полным пониманием важности происходящего. Но как ни пытал ее профессор, как ни путал своими каверзами, ничего подозрительного выяснить ему не удалось: Юрий Василенко был обыкновенным, даже положительным молодым человеком, не пил, не курил, занимался волейболом, хорошо работал и уважал старших. Вот и в последний день он принес с завода получку, отдал матери, помог соседке повесить картину, поиграл с племянниками и лег спать. А утром… Ох ты, горюшко горькое! На кого же ты нас, Юрочка, оставил, ведь одни ж мы теперь, без мужика, а этих несмышленышей кто ж на ноги поставит – ни отца у них нет, ни вот дяди любимого теперь… Умер внучок… Серафим Львович повздыхал, поохал вместе с бабкой да и попрощался.
Родственники следующей погибшей, Анны Коноваловой, проживали в соседнем подъезде. Встретили они гостя неприветливо и отвечали на вопросы скупо, потому как были, судя по всему, невысокого мнения о самой Анне. Убралась, дак и черт с ней, – сквернословили мать и отчим, – добро б девка была путевая, а тут и жалеть не о чем! Из красоты – коса рыжая, из моральных достоинств… ничего, в общем! Шваль! С соседом, Василенко, знакома была, конечно, но близких отношений не водила. Да куда ей! Побрезговал бы Юрка такой прошмандовкой – он-то себя в чистоте держал… Как умерла-то? Да как все умирают – легла и не встала. А что перед тем делала? Спала весь день да жрала, дармоедка! К соседке вечером зашла, к Евгении Спиридоновне, а потом на б… гулянки отправилась. Ну а как вернулась, мы не знаем, спали все уж, мы чай люди рабочие, нам вставать рано.
Профессор порадовался, что не придется на этот раз притворно вздыхать по поводу безвременной кончины незнакомой ему девушки, и поспешил уйти. И тут он вспомнил, где видел давешнюю строгую даму. Конечно! Это же и есть Евгения Спиридоновна, служащая местной библиотеки.
И хотя Серафим Львович добросовестно продолжал свое расследование вплоть до самого вечера, мы за его передвижениями по городу более следить не будем, потому как ровным счетом ничего нового, что как-то приукрасило бы сухой отчет Алика, профессор не выяснил. И только совсем уже поздно ночью, когда сидел он дома под уютной лампой и сопоставлял свои записи, внезапная догадка посетила его! Было… Было еще кое-что общее у всех жертв, помимо молодости и отменного здоровья! Все они без исключения в день перед смертью заходили в квартиры к соседкам: двое зашли к Евгении Спиридоновне, еще пятеро – к некоей Домбровской и целых десять человек побывало у гостеприимной Амалии Ивановны Штир, заведующей библиотекой… Назвать это простым совпадением у настоящего ученого язык бы не повернулся! Серафим Львович был уверен, что на поверку Домбровская окажется Боженой Бориславовной – третьей библиотечной сотрудницей.
Надо сказать, что библиотечный триумвират поразил профессора с самого первого дня знакомства. Поначалу Барский даже постыдно вздрагивал всякий раз, когда встречался в коридорах с одной из этих мегер, младшей из которых было никак не меньше девяноста лет. Профессору казалось, что на него движется какая-то уродливая тень со сложным очертанием то ли крыльев, то ли пышных, давно ушедших в прошлое платьев, и тень эта по странной причуде освещения занимает куда больше положенного ей места… Жуткие старухи!
Потом он, конечно, привык к ним, а вскоре вообще перестал радовать библиотеку своим присутствием, всецело отдавшись анализу рукописей на дому. И вот теперь старушечьи тени вновь появились, так сказать, на горизонте.
Будучи убежденным материалистом, профессор напрочь отмел возникшие было мыслишки «а вдруг…».
«Никаких вдруг! – Он хлопнул ладонью по столу так сильно, что уютная лампа тревожно замигала. – Всему есть рациональное объяснение. Может быть, в библиотеке хранятся древние фолианты, страницы которых покрыты ядовитой пылью? У старух, наверное, уже иммунитет выработался, но у остальных-то его нет… Вот тебе и простое решение детективной загадки!»
Нет для ученого человека большей радости, чем рождение изящной и остроумной гипотезы. Это как явление музы для поэта или утреняя доза для завзятого пьяницы, с той лишь разницей, что хорошая гипотеза по-настоящему просветляет ум, а не только дает иллюзию всеобъемлющей ясности…
Серафим Львович был чрезвычайно доволен собой. Он даже не заметил, как начал говорить вслух:
– Завтра же с утра я позвоню в Новосибирск и потребую прислать сюда врачей и химиков! Они возьмут пробы в библиотеке и… О-о-о-о… Как же я раньше не подумал! Ведь все книги и рукописи должны будут пройти карантин, а это значит… Это значит, что с публикацией дневников Даринского надо будет погодить…
Новая мысль так обрадовала профессора, что он не сразу услышал шум за дверью. Спохватившись, бросился открывать – наверняка это Алик, кто же еще, – и замер на пороге. Там никого не было. Зато на крыльце лежала отрезанная собачья голова. Отрезана она была совсем недавно, может быть, всего несколько минут назад, потому как кровь продолжала стекать на ступени, размывая и без того нечеткую надпись на мокром снегу: «Не лезь не в свое дело!» В этот момент с грохотом захлопнулась калитка и послышались чьи-то торопливо удаляющиеся шаги.
В хороших милицейских школах есть такой предмет – психология преступника. И поскольку всё в этом мире имеет свою обратную сторону, можно предположить, что в каких-нибудь специальных учебных заведениях для преступников преподают и психологию жертвы. Так вот злоумышленники, обезглавившие неизвестного черного пса, видимо, плохо учились в своей школе. Иначе они бы знали, что для большего эффекта необходимо выбирать средство устрашения в соответствии с психологическим портретом жертвы, принимая во внимание личностные, возрастные и интеллектуальные данные объекта устрашения.
Попросту говоря, не на того напали. Запугать профессора Барского еще никому не удавалось! Тем более такими примитивными методами. Серафим Львович накрыл собачью голову подходящим по размеру тазиком, чтобы Алик мог потом собрать необходимые улики, и вернулся в дом.
«Так-так, – думал он. – Дело становится все интереснее! Кто-то, заметив, что я провожу опрос свидетелей, серьезно испугался… Но кто?! Кому я мог наступить на хвост?»
Версия с непреднамеренным отравлением библиотечным ядом отпадала. С другой стороны, представить себе Амалию Ивановну или Евгению Спиридоновну, тяжелым топором отсекающими голову какому-нибудь Бобику, было чрезвычайно сложно. Могут ли у них быть пособники? Или, наоборот, старухи, сами того не зная, стали орудием преступников? Это требует дополнительного изучения и наблюдения. Главное, чтобы Алик согласился… Ах, как же это все чертовски любопытно!
Алика уговаривать не пришлось. Жертва была идентифицирована как дворовый кобелек Платон, живший при отделении милиции. Этот факт указывал на особую, вопиющую дерзость преступников. Они недвусмысленно давали понять, что им известно о сотрудничестве профессора с Аликом, и даже как бы намекали на отсутствие законопослушного трепета перед милицией. А это, в свою очередь, задевало профессиональную гордость сержанта.
Было решено установить наблюдение сразу за четырьмя объектами – библиотекой и старушечьими квартирами. Как сделать это, не привлекая к операции дополнительные силы? Очень просто! Надо следить за всеми объектами поочередно, но в абсолютно случайном порядке, сбивая с толку преступников и случайных свидетелей. Основная нагрузка при этом ложилась на пожилого профессора, в то время как Алик должен был играть роль своеобразного триггера, сеющего панику и провоцирующего злоумышленников на необдуманные поступки.
Дом, в котором проживала заведующая библиотекой, был крайне удобен для наружного наблюдения – прямо напротив располагалось почтовое отделение, из которого отчетливо была видна калитка интересующего профессора дома и даже одно окно – кажется, в гостиной. Серафим Львович взял стопку телеграфных бланков и занял стратегическую позицию за столиком. С собой он имел блокнот, авторучку, карандаш и пару бутербродов с докторской колбасой. Точно в условленное время появился Алик, отпер калитку и проследовал к дому. Его не было минут десять – достаточно для того, чтобы постучать в дверь, представиться и задать один-два вопроса касательно Абросимова, Ведерникова и еще нескольких граждан, навестивших зачем-то пожилую соседку аккурат перед самой своей гибелью полгода назад. Вот калитка отворилась вновь, из нее вышел Алик и направился в сторону центрального универмага, но перед этим потер руки, как бы согревая их, а на самом деле подавая условный знак профессору – все идет по плану!
Серафим Львович приник к окну, теперь уже почти не утруждая себя маскировкой и заполнением бланков с выдуманными поздравлениями вроде «ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВСКЛ ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ ЗПТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ТЧК». Время тянулось медленно. Случайные прохожие никак не хотели приближаться к калитке Амалии Ивановны и даже собаки обходили ее стороной, как будто зная о трагической участи Платона. Короткий осенний день медленно сменялся сумерками, бутерброды давно были съедены, а кипа неотправленных телеграмм на общую сумму в 17 рублей с копейками уже отправилась в мусорную корзину, когда наконец профессор заметил чью-то стремительно приближающуюся к дому узкую тень. Молодой человек среднего роста в длинном пальто привычным движением откинул крючок и открыл калитку. В отличие от Алика его не было довольно долго – что-то около часа. И вышел он в тот самый момент, когда уборщица на почте уже начала недовольно скрести шваброй пол, задевая теплые югославские ботинки профессора. Человек пошел в сторону от центра, очень медленно и как бы пошатываясь. Это дало Серафиму Львовичу возможность намотать шарф, застегнуть пальто и выбежать на улицу, не теряя из виду подозреваемого.
И вот тут-то начались трудности. Не имея опыта наружного наблюдения и боясь упустить объект этого наблюдения, профессор то слишком приближался, то, наоборот, отставал, не желая быть замеченным. Он прятался за редкими деревьями, сворачивал в переулки и даже делал вид, что ищет на земле упавшую монетку. Но к счастью, объект был так погружен в собственные невеселые, по всей видимости, размышления, что слежки попросту не замечал.
Вскоре улица закончилась, вернее перешла в длинный ряд гаражей и складов, а человек всё так же шел к одному ему известной цели, увлекая за собой и профессора. Ночь была безлунной, а фонарей в городе и на центральной-то улице было всего три, так что слежку пришлось вести в полной темноте.
И здесь давайте остановимся на минуту, чтобы восхититься удивительным мужеством Серафима Львовича! Это же надо – пожилой человек, отягощенный не только лишним весом, но и различными хроническими заболеваниями, так смело, без тени сомнения бросился в погоню за вероятным преступником, невзирая ни на темноту, ни на усиливающийся холод ноябрьского вечера…
И все же дальнейшая слежка была слишком опасна. Здесь, в промзоне, где асоциальные элементы чувствуют себя как рыба в воде, а заслуженные деятели науки, наоборот, ощущают некий дискомфорт, здесь профессор остановился отчасти потому, что сгущавшаяся темнота нагоняла на него страх, а отчасти и потому, что попросту потерял своего объекта. Поразмыслив и прикинув, что обратно человеку придется возвращаться тем же путем, Серафим Львович спрятался за дровяным сараем, откуда продолжил следить за дорогой. Довольно скоро он услышал неверные шаги пьяного человека. Мимо сарая по направлению к городу шел, тяжело дыша, бородатый мужчина в телогрейке. И чем дальше он шел, тем быстрее. В конце концов он почти побежал, наклонив корпус вперед так, будто пытался проткнуть головой воздух. И тут раздался громкий хлопок. Мужчина, нелепо взмахнув руками, упал. Серафим Львович на секунду оцепенел от неожиданности, но потом все же бросился к упавшему.
– Эй! Что с вами? Вы не ушиблись? – Он склонился над человеком, но последовал второй хлопок – теперь уже стреляли в профессора!
Серафим Львович пригнулся и отскочил в сторону, под защиту гаражной стены. Следующая пуля просвистела мимо.
В жизни бывают моменты, когда человек, даже очень умный, теряет голову и подчиняется древним инстинктам, не раз спасавшим его менее умных предков. Вот и Серафим Львович внезапно осознал, что чем дольше он здесь стоит, тем меньше у него шансов выжить. И профессор побежал. Он бежал зигзагами по узкому проулку, падая в полузастывшую грязь лицом при каждом выстреле, тут же поднимался и бежал дальше, теряя на ходу норковую шапку, мохеровый шарф и остатки самообладания. А выстрелы следовали один за другим, и некоторые пули проносились так близко, что профессорские уши трепетали, а сердце от ужаса грозило вырваться за пределы драпового пальто и оставить бедного Серафима Львовича там одного…
К автостанции профессора вынесло только утром. Всю ночь он в панике метался по улицам. На каждом углу ему мерещились старухи с ружьями, широкими тесаками и крючьями, под каждым забором валялась отрубленная собачья голова, а на деревьях то тут, то там висели удавленники, скрипуче раскачиваясь в такт ветру.
В кассе Серафим Львович купил билет на первый же автобус до Новосибирска и все оставшееся время прятался в деревянном туалете, изо всех сил притягивая к себе дверную ручку. Немного успокоился он, только когда рыжий автобус, дребезжа всеми своими деталями, сделал круг на центральной площади, всхрапнул и устремился прочь из города.
В Аликов дом за вещами Серафим Львович не заходил, поэтому пропажи фотокопий с народовольческой рукописи так и не обнаружил. Да и до рукописи ли теперь было этому старику с полубезумным взглядом, скорчившемуся на заднем сиденье автобуса? «Домой, – шептал он, заклиная водителя ехать как можно быстрее. – Домой!»
Сон
«Это как в проруби искупаться… Страшно и холодно только в первый раз, да и то недолго», – думал сидящий на крыше пятиэтажки худой, заросший пегой бородой человек, грея в кулаках застывшие пальцы. Порыв ветра взметнул облачко снега, прихватив по пути жестяную банку из-под мясорастительных консервов «Завтрак туриста». Банка жалобно звякнула о край водостока и полетела вниз стремительно, как летят в пропасть туристы, вооруженные страховочными обвязками, ледорубами, скальными молотками, шлямбурами и еще бог весть чем, но все же не удержавшиеся там, на краю того и этого света.
Человек посмотрел вслед банке: «А главное, второго раза, скорее всего, и не будет». Посидев так еще несколько минут, он ухватился за ствол староверского креста-антенны и встал. Внизу у гаражей молодые ребята тягали тяжелые ящики, утрамбовывая их в «буханку». Какая-то девушка покрикивала на них, поторапливая, и временами неодобрительно смотрела на крышу.
Зима наскоро заметала улицы, пряча грязные следы недавних дождей. Верхушки домов уже были похожи на белые могильные холмики, но на земле снег еще кое-где таял, словно хлебный мякиш, упавший в теплый чай. До настоящих холодов было далеко.
Сигарета была вонючей и какой-то кислой. Человек, морщась, докурил ее без удовольствия, больше для порядка, и затушил мозолистыми пальцами. Надо было спускаться домой.
Зайдя в жаркую квартиру, он подергал плечами, кое-как стряхнул с телогрейки снег и вдруг не мигая уставился на тусклую, скупую лампочку.
– Сашк, ты чего?
Фигура Сашкиной жены сливалась с интерьером квартиры. Одутловатое лицо ее казалось орнаментом на сырых, темных обоях, а тело, завернутое в байковый халат, имело тот же непередаваемо желтый оттенок, что и дээспэшная мебель.
– Антенну-то подергал?
Не ответив, Сашка прошел в комнату и рухнул на незаправленную кровать.
– Застелила б, что ли…
– Так воскресенье ж…
Ему вдруг захотелось вернуться на крышу. Там было свежо и тихо. Вместо этого Сашка поднялся, пошарил в кармане рабочих брюк и, вытянув оттуда последнюю трехрублевку, неопределенно буркнул жене:
– Я эта, к ребятам…
Но к ребятам, соседским мужикам, вечно колдырившим в сумраке соседнего с Сашкиным подъезда, идти почему-то не хотелось, и Сашка быстро пошагал к остановке. Автобусы в Каинске ходили по двум маршрутам – от Буденовки до конечной «Проходная № 4» и от железки в сторону Рабочего поселка, населенного такими горькими пропойцами, что официальное название конечной там народом давно забылось и говорили все просто – «до Ханыжной». Вот туда-то Сашка и поехал.
Выйдя из грязно-белого с голубой полоской пазика, Сашка направился меж двух длинных, барачного типа строений по узенькой гравийной дорожке со странным, но гордым названием «тупик Мира» к дому Хафика Мирзояна.
Хафик был крайне нетипичным представителем трудолюбивого и оборотистого армянского народа. Жил тем, что сдавал металлолом и макулатуру. Временами он подрабатывал сторожем на овощной базе, но подолгу старался там не задерживаться: грубая ругань коллег и дешевый одеколон, принимаемый внутрь в сопровождении ирисок «Золотой ключик», не находили в Мирзояне никакого сочувствия.
Неизвестно, почему в школе он сдружился именно с Сашкой, тихим пацаном с рабочей окраины (отец самого Хафа работал завмагом), но, так или иначе, первую в своей жизни бутылку портвейна они выпили вместе, на двоих, неудобно сидя на корточках в кустах позади школы и наблюдая постепенно мутнеющими глазами за голыми икрами пробегающих мимо старшеклассниц. И первым поцелуем, таким влажным и долгим, что сердце выскакивало от недостатка кислорода, их наградила одна и та же сорокалетняя барёха. Попутно в ту же ночь она одарила приятелей неприятной болячкой, из-за которой оба пропустили выпускной, а Хафик так еще и оказался впоследствии негоден к воинской службе… И пока Сашка отдавал долг родине, Хафик успел уйти из родительского дома, жениться, развестись и вроде бы даже отсидеть пятнадцать суток за распитие в общественном (фонтан «Колхозный венок») месте. С тех пор прошло немало лет, и Хафик побил все рекорды местного отделения милиции по числу противоправных актов в том же «Колхозном венке», но и поныне связывало его с Сашкой какое-то трепетное подобие лицейского союза. Союз этот был неразделим, вечен, неколебим, свободен, беспечен, хоть, впрочем, и не слишком тесен – виделись друзья редко.