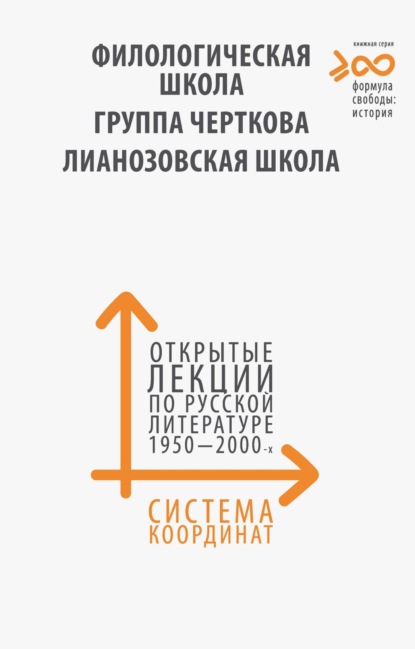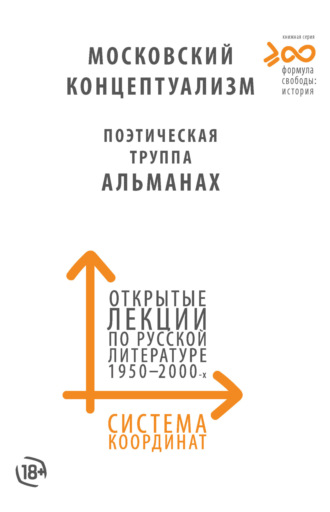
Полная версия
Система координат. Открытые лекции по русской литературе 1950–2000-х годов. Московский концептуализм, Поэтическая труппа «Альманах»
Подобным же коллективным произведением является работа Андрея Монастырского «Куча», демонстрировавшаяся на одной из квартирных выставок во время фестиваля квартирных выставок в 1975 году. Художник положил на стол тетрадь, поставил палочку, высота которой определяла планируемую высоту кучи. Каждый из зрителей клал на стол какую-либо личную вещь и записывал в тетрадь свои Ф. И. О., название и происхождение предмета, который он внёс в кучу. Очевидно, что таким образом создавалось коллективное произведение искусства, частью которого была и тетрадь с именами всех авторов и указанием их частного вклада в общее произведение. Вот страница из такой тетради с квартирной выставки 1976 года, где мы можем прочесть названия вещей, которые были в куче: «таблетка анальгина из косметической сумочки, белая, 0,25 г»[9], «кусочек от рейтуз»[10], «прядь волос с задней части головы»[11]…
Лев Рубинштейн (из зала): А чего я там положил?
Оксана Саркисян: «Билет входной в зал Дома учёных от 14 декабря 1975 года, взятый из кармана брюк».
Такие объекты и были неотъемлемой частью диалога, происходившего внутри концептуального круга. При этом отсутствие разных направлений внутри московского концептуализма и схожесть приёмов, которыми пользовались художники, порой подталкивает к сомнению в том, можно ли назвать школу московского концептуализма концептуализмом в его англо-американском понимании. Автор в контексте «московского концептуализма» не производит концепт, а выполняет некоторую миссию: Лев Рубинштейн называл себя «тотальным систематизатором поэзии», Андрей Монастырский говорил, что он является автором координат, структур, которые затем наполняются комментариями, интерпретациями и т. п.
Эти структуры, каркасы смыслов, создававшиеся художниками-концептуалистами, представляли лишь первоначальную интеллектуальную форму концептуалистского объекта. Для того чтобы произведение «работало», был обязателен его контакт со зрителем – и при этом контакте зритель, перемещая, меняя местами (не только физически, но и в уме) части манипулятивного объекта, менял или полностью разрушал его структуру, открывая новые слои смыслов, совершенно отличные от тех, что создавал автор. Однако такое изменение, производимое, подчеркиваю, коллективно, и было одной из основных целей художников круга московского концептуализма.
И в завершение мне хотелось бы отметить следующий момент. Хотя при создании, как мы уже поняли, объекты московских концептуалистов не предназначались для экспонирования в выставочных залах, но в Третьяковской галерее сейчас в постоянной экспозиции выставлены их работы. Можно увидеть работы Андрея Монастырского, Дмитрия Александровича Пригова и других художников. В частности, там есть и карточки Льва Рубинштейна. Они экспонируются в шкафу библиотечного каталога. Вот такой допотопный шкафчик стал частью объекта Льва Рубинштейна. В нём, как и положено, библиотечные карточки, но не только с текстами Льва Рубинштейна. Текстов, правда, оказалось у Льва Рубинштейна намного меньше, чем могут вместить ящики этого шкафчика. Поэтому (техническая деталь) в конце каждого ящика остались пустые карточки для объёма. Будучи сотрудником Государственной Третьяковской галереи, я обнаружила тайную коммуникацию зрителей с автором и, разумеется, никому не рассказала из официальных лиц. Теперь сообщаю вам сугубо неофициально[12].
Спасибо за внимание.
Лев Рубинштейн: Добрый вечер, дорогие друзья! Я уже не в первый раз выступаю в несколько странной для автора роли – роли не субъекта искусства, а его объекта, роли человека, которого профессор медицины демонстрирует своим студентам. Приводят такого человека и говорят: «Ну вот, вы можете ему задать вопросы… По тому, как он ответит, вы можете ему поставить диагноз».
Я очень благодарен Оксане за хоть и короткий, но, по-моему, очень содержательный доклад. Достаточно сказать, что я, который был внутри процесса и всё это помню, не то чтобы узнавал новые для себя вещи, но, так скажем, припоминал их. Конечно, период бури и натиска концептуального круга давно в прошлом, и важно понять, что всё, описанное Оксаной, – уже факт истории, несмотря на то что многие участники концептуального круга живут и действуют до сих пор.
Я хотел подхватить одно из соображений Оксаны по поводу того, что в момент создания этих объектов не предполагалось выставлять их в каком-либо экспозиционном пространстве, а люди пишущие не предполагали, что их тексты когда-либо будут изданы. Тем не менее эти времена наступили, и каждый из авторов должен был решить для себя проблемы свалившейся на него возможности выйти к широкому слушателю, читателю и т. п. Лично в моём случае это вылилось в проблему компромисса: типографски воспроизводить мои картотеки – занятие сложное, дорогостоящее, и мало кто на это решался (хотя подобные опыты были). Поэтому, когда мне предложили издать мои тексты книгой, мне пришлось перевести объёмный текст (в том виде, в котором он существует на карточках) в некую плоскость. Поэтому, я считаю, в виде книги мои сочинения – не оригинал, а копия, даже не копия, а скорее репродукция оригинала. Любой мой текст, набранный в «плоском» книжном виде, так же относится к своему оригиналу, как фотография скульптуры – к самой скульптуре. То есть репродукция здесь даёт представление об объекте, но не даёт его объёма, глубины и так далее. Тем не менее мои тексты уже давно выходят в печатном виде – в книгах, журналах, периодических изданиях, и кто-то уже знакомится с ними, даже и не зная о существовании каких-то там карточек… Видимо, так у текстов появилась какая-то новая жизнь.
Я прочитаю несколько текстов, приближенных к концептуалистскому периоду.
Первый текст 1981 года, он очень типичен для тогдашнего метода. Он короткий и в каком-то смысле представляет собой дирижёрские указания некоему предполагаемому исполнителю неизвестно чего. Второй текст чуть более поздний, 1984 года.
С начала и до конца [13]
1– С самого начала как обычно. – Но при этом так, как будто до этого ничего не было и после этого ничего не будет. —
2– Примерно так же. – Но при этом так, как будто всё только что началось. —
3– Приблизительно так же. – Но так, чтобы ощущение первого импульса сохранялось в полной мере. —
4– В таком же духе. – Но таким образом, чтобы ни на минуту не ослабевало ощущение свежести и новизны. —
5– Всё так же. – И в то же время так, чтобы чувство уверенности всё возрастало. —
6– По-прежнему. – При этом так, чтобы было вполне очевидно: всё в порядке, всё на своих местах. —
7– По-прежнему. – При этом с таким расчеёом, чтобы и мысли не возникало относительно возможности изменения сложившейся ситуации. —
8– Таким же образом. – Но так, чтобы сложившаяся ситуация мыслилась как единственно возможная. —
9– Точно так же. – Но так, чтобы ощущение покоя не оставляло ни на минуту. —
10– Так же. – Но так, чтобы к ощущению постоянного покоя примешивалось ещё и чувство тихой радости. —
11– Так же. – Но так, чтобы вопросы относительно дальнейшего, не успев появиться, исчезали сами собой. —
12– Всё так же. – Но при этом так, чтобы вопросы относительно дальнейшего не могли даже и возникнуть. —
13– Так же. – Но так, чтобы какие бы то ни было рекомендации, относящиеся к дальнейшему, даже и не принимались во внимание. —
14– Так же. – Но так, чтобы возникающие подчас сомнения либо разрешались сами собой, либо отвергались как надуманные. —
15– Так же. – Но так, чтобы для сомнений вообще не было места. —
16– Дальше по такому же принципу. – Но так, чтобы постоянная фиксация позитивных состояний каким‐либо образом не привела к негативным результатам. —
17– И так до самого конца. – Но и так, чтобы оставалось смутное ощущение того, что есть ещё и реальная возможность чего‐то ещё. —
Всё дальше и дальше
1Здесь всё начинается.
Начало всему – здесь.
Однако пойдём дальше.
2Здесь вас не спросят, кто вы и откуда.
И так всё понятно.
Место, где вы избавлены от назойливых расспросов, —
именно здесь
Но пойдём дальше.
3Здесь дышится легко и свободно.
Лучший отдых – это здесь.
Но надо идти дальше.
4Здесь куда взгляд ни упадёт – всё прелесть, что ухо ни уловит —
всё сладкий напев, кто что ни скажет – всё истина.
Но пойдём дальше.
5Здесь уже всё совсем по-другому.
Неважно, как.
Важно, что по-другому.
6Здесь всё равно как.
Лишь бы запомнилось навсегда.
7Здесь охватывает острейший приступ ностальгии.
Чем это достигается, непонятно.
8Здесь долго оставаться не следует. Потом, вероятно, станет ясно, почему.
9Здесь у каждого своё дно и свой потолок.
Границы падений и воспарений у каждого свои.
И это не только здесь.
10Здесь всё что‐то напоминает, на что‐то указывает, к чему‐то отсылает.
Только начнёшь понимать, что к чему, как пора уходить.
11Здесь необходимо справиться с искушением спросить, что же дальше‐то будет. А дальше будет то, что и должно быть.
12Здесь написано:
«Прохожий.
Остановись.
Подумай».
13Следующая надпись гласит:
«Прохожий.
Остановись.
Попробуй придумать что‐нибудь другое, лучше этого».
14Здесь мы читаем:
«Прохожий.
Рано или поздно – сам понимаешь…
Так что – сам понимаешь…»
15Здесь написано:
«Прохожий.
Учти – ты можешь так ничего и не понять».
16Здесь:
«Прохожий. Мы даже не знали друг друга.
О чём нам говорить?»
17И здесь:
«Прохожий.
Не останавливайся.
Иди дальше».
18Пойдём дальше.
19Вот некто в полумраке решает расстаться с надеждой и не может;
Некто, находящийся в стеснённых обстоятельствах, ищет выхода и не может найти;
Некто пытается провести отчётливую линию между
прошедшим и предстоящим. Его просто не замечают;
Некто устроился таким образом, что всё, что бы он ни
сказал, подходит к случаю. Это импонирует. Его замечают;
20Вот некто, преувеличенно внимательный, не замечает
главного. Сосредоточиваясь на мелочах, он выглядит
немного смешным;
Некто, устремлённый в вечность, поскользнулся и падает.
На него падает яркий свет. Довольно жалкое зрелище;
Некто не может прийти в себя от какой‐то ошарашившей
его новости. Так он – оглушённый – и ходит;
Некто теряется в толпе. Его обнаруживают, шумно
приветствуют, почти насильно вытаскивают на середину.
И вот он стоит;
21Вот некто с остановившимся взглядом говорит и говорит
что‐то более чем невнятное, потом уходит, снова
возвращается, опять уходит – и так много раз;
Некто с установившимися привычками подсаживает даму
в вагон и долго машет ей вслед. На лице умиление;
Некто остаётся один. Он в полной растерянности. Он
решительно не знает, что предпринять. На лице – целая
гамма переживаний;
Некто, сомневающийся, всё хочет что‐то спросить, но всё не решается. Растерянная улыбка;
22Вот некто тихим голосом произносит слова утешения;
Некто – безутешный – не приемлет слов утешения. Он
говорит, что ему ни от кого ничего не надо;
Некто, подавленный необходимостью сообщить кое-кому
нечто крайне неприятное, всё оттягивает своё решение. Его
можно понять;
Некто, полагающий неправильным вмешиваться в чужие дела, сам постоянно в них вмешивается, чего решительно
не замечает;
23Вот некто, поддавшийся на удочку бытия, плачет о своей
судьбе и ни о чём не подозревает;
Некто полузадушенным голосом говорит о том, как он
счастлив. Все незаметно переглядываются;
Некто ударяется в воспоминания. Прерывать его
бессмысленно;
Некто безуспешно пытается кому‐то что‐то разобъяснить.
Непонимание выводит его из себя;
24Вот некто удручён происходящим. Попытка выяснить, что
именно его угнетает, ни к чему не приводит. Его жаль;
Некто поражает парадоксальностью суждений. Но и его
почему‐то жаль;
Некто тешит себя ожиданиями чего‐то иного. Его путь
уныл. Знает ли он об этом?
Некто сам себя не видит и не слышит. И напрасно: на многие вещи он стал бы смотреть иначе;
25Вот некто не в силах противиться инерции. Это не сулит
ничего хорошего;
Некто решительно не в состоянии совладать с собой. Это
никуда не годится;
Некто не желает замечать очевидного. Он, по-видимому,
обречён;
Некто смотрит прямо перед собой. В глазах застыл ужас.
Его уже, пожалуй, не спасти;
Некто бредёт сам не знает куда. Его ещё можно разглядеть.
Вот он;
26Вот некто пробует спастись в одиночку. Куда ему?
Некто, как только может, делает вид, что он тут ни при чём.
Но и он никуда не денется;
Некто всеми силами устремлён в настоящее. Но от
будущего и ему не уйти;
Некто на пороге последнего решения. Подождём, что будет;
27Вот некто буквально угасает без постоянного поощрения.
Что ж – поддержим его;
Некто и мысли не допускает, что всё это когда‐нибудь
кончится. Господи, дай ему сил!
Некто сказал что‐то и ждёт, что будет дальше. А дальше что
может быть?
28Пойдём дальше.
29Здесь говорится:
«Все эти жаждущие и вожделеющие, понапрасну
мятущиеся и выкарабкивающиеся из грязи, полуоглохшие
и навсегда осипшие – ну что с ними делать?»
30Здесь говорится:
«Все эти устремляющиеся ввысь, катящиеся в бездну,
влезающие и вылезающие, задетые за живое, живущие за
счёт бесконтрольных страстей, привыкшие к чему угодно,
по-своему представляющие интерес – что они тут делают?
Что им тут надо?»
31Здесь говорится:
«Все эти без вины провинившиеся, обжёгшиеся и дующие,
напряжённо задумавшиеся и привлечённые едва слышным
голосом вечности, ссутулившиеся от непосильных
загадок бытия, неоправданно взволнованные бог знает
какими известиями и трепетно вслушивающиеся в то, что
говорится – куда их всех несёт?»
32Здесь говорится:
«Все эти лукавящие и прикидывающиеся, до поры до
времени скрывающие, а потом вдруг всё выкладывающие, всё чего‐то прибедняющиеся, а в результате торжествующие, вроде бы ничего не принимающие всерьёз и плачущие в одиночку, притворяющиеся, что ничего не понимают и делающие неожиданные для всех выводы, поминутно прощающиеся, но даже и не думающие никуда исчезнуть – что с них взять?»
33Здесь говорится:
«Все эти растворяющиеся и кристаллизующиеся,
замерзающие и оттаивающие по собственному уразумению,
волею случаю приближенные к тому, что закрыто для
остальных, но игнорирующие дарованные им права,
прячущиеся от дурного глаза и высовывающиеся в самый,
казалось бы, неподходящий момент, трепетно вдыхающие
вместе с весенним воздухом понятное что‐то им лишь
одним и извергающиеся на сыром ветру – ну все что ли?
Или ещё что‐нибудь?
34Здесь говорится:
«Все эти непровинившиеся, но признающиеся, как бы
приободрившиеся, но поминутно впадающие в уныние,
не уступающие друг другу в стремлении осмыслить
происходящее, но ни черта не понимающие, влачащие
поклажу собственных надежд и утверждающие, что
всё потеряно, то запаздывающие, то приходящие
раньше времени, колышущиеся от слабого ветерка
и упорствующие в собственных заблуждениях,
полагающие, что всё позади, и переминающиеся с ноги
на ногу в ожидании хоть каких‐то перемен – ну полно
уже – пора остановиться».
35Совсем другой голос:
– После этого его как будто подменили. Ходит тихий
такой, благостный. Всё чему‐то улыбается…
36Другой голос:
– Ну всё, теперь начнётся. Только ты‐то хоть молчи, не лезь…
37Другой голос:
– Так вот, представьте себе, с неизменной своей улыбкой
и прошёл он через все эти круги. Не человек – уникум
какой‐то. Сколько живу – таких не видел…
38Другой голос:
– Он её, между прочим, тоже терпеть не может. Так что вы
зря…
39Другой голос:
– Да нисколько вы мне не помешали, уверяю вас. Сейчас
вот только точку поставлю…
40Другой голос:
– «Облаков несуетная поступь…» Как там дальше, не
помните? Да… Давно это всё было…
41Другой голос:
– Так обидно, не передать. Представляешь себе: я готовилась, готовилась. Витьку к маме отправила. В общем, всё как надо. И уже собиралась номер набрать, как вдруг является этот мудак и сидит, и сидит, и сидит. Представляешь себе? Я думала— лопну от злости, честное слово…
42Другой голос:
– Ну, вот и всё. Вот мы и стали совершенно чужими. Как
это могло произойти? Где проходит эта роковая черта, ума
не приложу. И всё‐таки я надеюсь. Да, да. Я продолжаю
надеяться вопреки всему.
Что? Вы смеётесь? Вам это кажется смешным? Не надо
смеяться, умоляю…
43Другой голос:
– Посмотри как‐нибудь внимательно на его всегдашнее
выражение лица, на эти вымученные улыбочки. Послушай
эти жалкие речи.
Может быть, ты и поймёшь тогда, каково мне было все эти
годы…
44Другой голос:
– Сейчас будет самое трудное. Держитесь, коллега… Так…
Вы не ушиблись? Ну и слава богу.
Так вот, я продолжаю. То самое лето было анафемски
жарким, пыльным, засушливым. Одним словом, адское
какое‐то лето. Не лето, а Лета какая‐то, простите за
каламбур… Так!.. А я, кажется, всё‐таки задел…
45Другой голос:
– Послушайте, от ваших дьявольских фантазий даже как‐то не по себе становится. Вас послушать, так и жить не стоит…
46Другой голос:
– Ну, давай считать. Ты и я – двое. Генка – три. Серега
с Надей – пять. Зворыкиных ещё можно позвать. Виолетку,
если не дежурит…
47Другой голос:
– Если хотите, можете проводить меня. Ну, хотя бы до
станции. Хоть чуть-чуть вы джентльмен, я надеюсь?
48Другой голос:
– Интересно вот что. Иногда нужны очень многие, иногда
буквально все, иногда никто, иногда кто‐то один. Вот как
сейчас, например…
49Другой голос:
– Сначала приведи себя в порядок. Посмотри, на кого ты
похожа…
50Другой голос:
– Значит, так. Никуда ты сейчас не пойдёшь, а немедленно
разденешься и вернёшься за стол. Это раз. Второе. Чтобы
никаких так называемых «страданий» я на твоей роже не
видел. Третье. Всякому, кто осмелится в твоём присутствии
хотя бы отдалённым намеком – ну сам понимаешь, – тому
придётся иметь дело со мной. Это тебя, надеюсь, устраивает?
Ну, раздевайся, раздевайся. Не дури, старик.
51Другой голос:
– Куда ж теперь пойдёшь?
Отовсюду гонят… Везде попрекают…
Повеситься, что ли?
52Другой голос:
– И что же? И что же прикажете делать? Назад пути нет —
это ясно. Оставаться на месте? Ну нет, это не по мне. Так,
значит – навстречу судьбе?
Ну что ж – я готов. (В зрительный зал.) А вы что же
молчите? Не останавливаете меня? Не утешаете? Ведь
одно человеческое слово может иногда спасти от гибели.
Впрочем, что это я говорю? С кем это я говорю? Прощайте.
53Сцена:
Ночь на даче.
Хрипло в отдалении гудят поезда.
Очень холодно.
54Другая сцена:
Разгар лета.
За сценой – песня деревенских девушек.
55Другая сцена:
Стол, накрытый для чая.
Самовар, баранки.
На спинках беспорядочно расставленных кресел – пледы,
плащи.
Во всём какое‐то легкомыслие.
56Другая сцена:
Гостиная в небогатом доме.
Сквозь тяжёлые шторы приглушённый свет.
Множество цветов в вазах всевозможных размеров.
Героиня стремительно входит, держась пальцами за виски.
Почти без чувств падает в кресла.
Рыдания.
57Другая сцена:
Веранда, благоухающая цветами плодовых деревьев.
Два кресла-качалки.
Одно из них слегка покачивается, из чего ясно, что кто‐то
только что вышел.
За сценой голоса: взволнованный женский
и успокаивающий мужской.
На сцену никто пока не выходит.
Звуки приближающейся грозы.
Внезапно темнеет.
58Совсем другая сцена:
По оформлению сцены ясно, что погода с утра стоит отменная, вчерашний порывистый ветер утих, унеся
с собой рваные остатки сплошной безысходной хмури.
По освещению сцены ясно, что на душе у героя, шаги
которого уже слышны за сценой, чисто, светло и немного
грустно, как в лучшую пору юности.
По внезапно наступившей тишине ясно, что в жизни героя
наступает едва ли не самый решительный момент.
Однако родившийся в недрах абсолютной тишины шум
незаметно нарастает. Он всё нарастает и нарастает,
постепенно становясь невыносимым.
(Занавес)
Сергей Соколовский: Вопрос к Оксане Саркисян. Как сейчас вы представляете себе московский концептуализм, был ли он демократичен?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В 2008 году, когда состоялось моё совместное со Львом Рубинштейном выступление, я работала в Третьяковской галерее, в Отделе новейших течений, сформированном незадолго до того на основе коллекции Андрея Ерофеева. Организаторы мероприятия пригласили меня по рекомендации известного искусствоведа и специалиста по этому вопросу, Екатерины Дёготь, которая по каким‐то причинам не могла вести лекцию сама, вероятно, в качестве музейного работника. Моя роль, как она мне виделась, состояла в том, чтобы выступить «на разогреве публики» перед чтением маэстро, в соответствии с концертными практиками. Уже тогда я осознавала нелепую несоразмерность масштаба автора и представляющей его музейной рамки в моём лице. Но, чувствуя особенность момента – автор был среди нас, – я не удержалась и в достаточно провокационной форме подняла ряд вопросов, актуальных для меня тогда. В то время присутствовало противоречивое ощущение, интрига и лёгкий флёр между неофициальным и официальным. Началось обновление музейных фондов и постоянной экспозиции, но музейный менеджмент ещё не вступил в свои права, и выставки-блокбастеры, захватывающие историю искусства в глянец, были впереди. Публика в зале по большей части состояла из людей, хорошо знакомых с историей московского концептуализма на собственном опыте. За время, прошедшее с того памятного вечера, появилось много томов теоретических и исторических академических текстов. На момент публикации этого сборника Третьяковской галереей было сделано официальное заявление о реорганизации Отдела новейших течений. И история в очередной раз представляется нам «с начала и до конца». Редактируя этот материал, я постаралась максимально сохранить атмосферу дискуссий нулевых, лишь немного уточнила отдельные факты и источники. Декабрь 2024. – П рим. О. Саркисян.
2
Рубинштейн. Л. Программа работ // Метки по новой живописи. 1975. № 2. – Прим. сост.
3
«Группой Сретенского бульвара», «школой Сретенского бульвара» условно именуют сообщество разных по творческим установкам, но связанных дружескими отношениями московских художников-нонконформистов конца 1960-х – 1970-х годов. Термин восходит к эссе «Московский дневник» чешского искусствоведа И. Халупецкого (Chalupecký J. Moscow diary // Studio international. 1973. Vol. 185, № 952. P. 81–96), назвавшего «школой Сретенского бульвара» четырёх художников – Илью Кабакова, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова, Владимира Янкилевского. Их мастерские находились в центре города – от Сретенского (Кабаков) и Чистопрудного (Булатов) бульваров до Маросейки (Пивоваров) и Уланского переулка (Янкилевский). Несмотря на то что сами художники себя группой не считали и этим названием не пользовались, термин закрепился в истории искусства. К «группе Сретенского бульвара» стали относить также Юло Соостера, Олега Васильева, Эдуарда Штейнберга, Юрия Нолева-Соболева, Ивана Чуйкова, Михаила Рогинского и других представителей неофициального искусства, чьи московские мастерские были расположены в основном в окрестностях Сретенского и Чистопрудного бульваров. – Прим. сост.
4
Герловины уехали в 1979 году в США, Комар в 1977-м сначала в Израиль, потом в США, Меламид – в 1977-м в США. – Прим. сост.