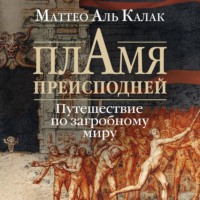Полная версия
Пламя преисподней. Путешествие по загробному миру
3. Эпическое сражение
Как уже было сказано, богословие в течение веков продолжало перерабатывать библейскую традицию, пытаясь понять истоки преисподней, кто такой дьявол, откуда произошло его падение и что и кого он возглавил. Основы из Писания и их толкования поддерживали постепенно формировавшийся рассказ. Желая изучить, как все это взаимодействовало с литературными образцами, появившимися во время Контрреформации, из различных свидетельств, которые показывают, что этой теме уделялось особенное внимание, можно извлечь пищу для размышлений. Возможно, излишне напоминать, что падение Люцифера пользовалось определенным успехом в Новое время и, чтобы расширить охват по Европе, достигло своей вершины в «Потерянном рае» (Paradiso perduto) Мильтона (1608–1674) [23]. Что касается Италии и большого количества текстов по теме, то отправной точкой послужила поэма, сочиненная в 1568 году Антонино Альфано и посвященная, как указывает название, «Небесной битве между Михаилом и Люцифером» (Battaglia celeste tra Michele e Lucifero) [24]. О самом авторе мало что известно, только то, что он умер десять лет спустя после публикации своего произведения (16 августа 1578) [25]. Тем не менее эта тонкая книжица стала родоначальником малоизвестной традиции об эпическом падении мятежного ангела. Страницы Альфано родились в рамках палермской Академии дельи Аччези, основанной вице-королем Франческо Фердинандо д’Авалосем на Сицилии во второй половине XVI века [26]. По всей вероятности, Альфано вдохновился подвигом Мальты в 1565 году, когда католические армии с успехом сопротивлялись османской угрозе, предвосхищая окончательную победу при Лепанто. Вместо того чтобы рассказывать о «мечтах и сказках поэтов», как в рыцарских сочинениях, лучше прославить первую великую битву, которая породила все остальные («первая, настоящая и небесная битва») [27].
В различных песнях появляются многие детали, упомянутые раньше, в оригинальном сочетании, которое, по сути, отдаляется от строгих определений доктрины. Рассказ Альфано сразу же представляет нам грех Люцифера: конечно же, гордыня, но с чертами, которые лишь частично похожи на те, что определило богословие. Связь между высокомерием Сатаны и воплощением Христа определяет небесную битву: вместо желания единосущного слияния с Богом (оставленного для Сына) кипит гнев и ненависть от пришествия в мир Иисуса. Сатана неистребимо враждебен человеческой природе, которую решил принять Христос, отсюда происходит яростная атака на небесные планы, которые будут исполнены в ходе истории, он борется, чтобы расстроить замысел вечного Отца. Безумное намерение Люцифера – уничтожить Сына Божия, а именно разрушить план Создателя и остаться в небесах единственным существом, равным Богу:
Изрек Свое слово Отец Небесный,И, плотью облекшись, Оно стало Сыном.Пролился на землю свет чудесный,Так стали они целым единым.Один Люцифер, узрев то явление,Исполнился гневом, объят он гордыней.Он к мести стремится в своем исступлении,И ярости волны вздымаются ныне.В сердце рождается жажда бесчинства,Других к мятежу в Небесах призывает.Желает разрушить он это единство,С оружием грозно вперед выступает.Безумная мысль душой овладела,Покоя не знает он, злобой мучимый.Быть равным с Творцом стремится он смело,Достигнуть Того, кто непостижимый [28].Богословская традиция приспособилась к греху, наиболее простому для восприятия: Сатана хочет быть равным Богу, Христос представляет препятствие на его пути. Во второй песне в уста Люцифера вложены очень ясные слова: «Выше звезд я поставлю свой трон и буду равен бесконечной силе высочайшего» [29]. Быть как Бог (тема, которая, помимо непослушания Сатаны, напоминает искушение первого человека [30]), следовательно, было целью Люцифера, который, соответственно, не мог принять унижения, когда почитали «столь презренное облачение», как человеческая природа Иисуса. Исходя из этих предпосылок, дьявол призывал к восстанию других небесных существ; Альфано принимает традицию, не восходящую к библейскому тексту, согласно которому часть ангелов объединилась против Бога, а часть осталась нейтральной, не принимая сторону ни Создателя, ни Сатаны: первые были отправлены в ад, а вторые в царство воздуха [31]. После совета Люцифера со своими приспешниками поэма останавливается на сражении и заканчивается сценой, в которой побежденный Сатана бежит, чтобы подготовить преисподнюю для своих войск:
Дрожат Небеса от раскатов гневных,Ангелы падают, облик теряя.И змей среди них спешит самый первый,Под землю стремится, ад создавая [32].Мятежники, превращенные в монстров, и змей, то есть Люцифер, представленный как искуситель из книги Бытия, были изгнаны с небес, наконец-то свободны и радостны: Сатана скатывается к земле и сам создает преисподнюю. По мнению Альфано, князь тьмы сам же и создал свое царство или, по крайней мере, обустроил пространство, чтобы принять свои полчища. Поэма открывается светом эмпиреев и заканчивается суровой реальностью преисподней, в которой дьявол, надменный и озлобленный, скрылся, как раненый зверь.
Мало кто сомневается в том факте, что видение преисподней как результата падения Люцифера и эпического сражения, в котором он противостоял архангелу Михаилу, отныне стало частью общего изобразительного ряда (в случае Альфано выражением высокой культуры). Сюжет, представленный во многих произведениях на священные темы, в Италии XVI и XVII веков заслужил значительное внимание, что показали другие тексты, которые после «Небесной битвы» сконцентрировались на нем.
Двигаясь дальше на север, можно остановиться, например, на творчестве литератора из Фриули Эразма ди Вальвазона (1528–1593) [33]. Обладатель небольшого имения на границах Венецианской республики, он установил контакт со столичными литературными кругами и такими личностями, как Диониджи Атанаджи, Лодовико Дольче, Франческо Сансовино и Жироламо Рушелли. Автор перевода на итальянский язык Стация («Фиваида» (Thebaide) Франчески, Венеция 1570), после этого он сдал в печать «Слезы святой Марии Магдалины» (Lagrime di santa Maria Maddalena) в восьмистишиях (Гуэрра, Венеция 1586), показывая приближение к религиозным вопросам. Четыре года спустя появились три песни Ангелеиды (Angeleida; Сомаско, Венеция, 1590), в которой рассматривался эпизод небесной битвы [34]. Поэма, задуманная, чтобы прославить Светлейшую, вызвала различные дискуссии по поводу использования образов, которые описывают духовную сущность ангелов многозначительными терминами. Но важно отметить, какой смысл придается грехопадению Люцифера и – в последней из трех песен – созданию преисподней. Использую свободную волю, данную ему Богом [35], Сатана поддался гордыне [36]. Приводятся аргументы, подобные виденным у Альфано, о природе и содержанию такого греха, только с одним значимым изменением: ангел «самый любимый и самый отважный, самый сияющий среди всех милостей, взор не бросил на красоту свою, но на высокомерие духа» [37]. Propria virtute богословия – Люцифер, который полагается на самого себя, а не на милость Божью, переходит в чрезмерную тщеславность и слепое утверждение превосходства, когда Сатана призывает к войне своих приспешников в конце первой песни («Он не больше меня, каждый меня чтит») [38]. Из-за этого мятежа самый красивый из ангелов, уничтоженный Михаилом, погружается в «вечную темницу», расположенную «в бездне» [39].
После свержения, когда высокое и низкое поменялись местами, Люцифер оказался придавлен весом царства, куда он был заброшен: он был превыше всех, пишет поэт, а теперь царство зла легло на него тяжким грузом [40].
Большой интерес представляют строки о рождении преисподней относительно ее владыки. Темное царство не было бы нужным для «вечного правосудия, чтобы наказать подлости и ошибки других», потому что поначалу всё было создано чистым и невинным [41]. Тем не менее «адская пещера» оказалась необходимой после грехопадения Сатаны. Проиграв битву, мятежный ангел был поглощен недрами земли, которые сразу же потом закрылись:
Ангелы Божьи идут в наступление,Битва Небесная все разгорается.Ангелы темные в ожесточении,И Сатана с ними сверху бросается.Только недолго их ослепление.Полость подземная вдруг открывается,В центр земли он поспешно спускаетсяИ безвозвратно внутри закрывается [42].Как в октавах Альфано, Люцифер низвергнут с небес. Земля в ужасе от злого ангела раскрыла пропасть и поглотила его. Оказавшись в бездне, Сатана оглядывается вокруг, чтобы осмотреть бесконечную темницу, к которой он приговорен. Как он, так и его приспешники оплакивают потерянную родину, в их порывах скорбь и одновременно гнев [43].
Адская пещера описывается с помощью присущих литературной и изобразительной традиции деталей: безвоздушная, грязная, темная, освещенная лишь неугасимо горящим огнем и одновременно окруженная заледенелыми стенами [44].
Сатана во всех смыслах «несчастный царь» этих владений, который, сброшенный с эмпиреев, направляет свои мысли на «основание нового царства»: его корона изготовлена из тьмы, и он изрекает свои приказы из семи ужасных уст [45]. Адское пространство «лексически напоминает “Ад” Данте, тем не менее в ужасной всенощной присутствуют “другие” образные и звуковые знаки», Люцифер организовал его так, чтобы раздавать поручения и обязанности и в конечном счете спускать с цепи силы зла, чтобы искушать и приводить в смятение человечество [46].
Продолжая этот беглый осмотр, стоит указать несколько вариантов, которые распространились в те же десятилетия, когда творили Альфано и Вальвазон, в подтверждение постоянно меняющегося пейзажа. Например, книжечка «История Люцифера в восьмистишиях» (Caso di Lucifero in ottava rima) Амико Аньифило (1555–1601), опубликованная в Акуиле в 1582 году [47]. Потомок кардинала-тезки, который в XV веке управлял епархией в Абруццо, Аньифило был автором некоторых сочинений религиозного содержания (кроме «Истории Люцифера», «Пленение Иосифа» (Cattività di Giuseppe)) и оставил различные творения, вдохновленные классикой (например, «Суд Париса» (Giudizio di Paride)) [48]. Произведение о падении Сатаны состоит из одной песни в 124 восьмистишия, в которой последовательно изложены события, произошедшие на заре творения. Грех Люцифера и природа мятежного ангела были изображены в обычной манере: обладающий великой доблестью и красотой («поражающий стихии»), Сатана стал ужаснейшим среди демонов [49]. Его проступок был в желании нарушить волю Бога, чтобы провозгласить себя царем вселенной. Это свидетельствовало о безумии, в которое дьявол впал, чтобы «присвоить себе имя всемогущего»:
В безумии своем готовится к броску,Не видит, что напрасны усилия его.И никогда не выпадет чести гордецу:Не может творение равным стать Творцу.Нелишним будет отметить то, как Аньифило касается богословской темы, а именно – невозможность творению стать равным творцу. Строптивый Люцифер упорствует в своем стремлении, ослепленный жаждой власти: спрашивается, зачем быть превыше всех в свете и славе, если в конечном итоге не можешь быть похожим на Бога? [50]. В «Истории Люцифера» возникают парадоксальные подробности небесного бунта: именно божественная сила дала Сатане такую мощь и, конечно же, предсказала его мятеж. Но вожделение сподвигло ангела на бунт против его создателя. Даже осознавая, что хочет слишком многого, Сатана в то же время не может сдержаться, подталкиваемый величием своей природы:
<…> Предвидел ли Бог такой мой проступок,Сомнения меня не терзают ничуть.Воспользуюсь силой, свыше мне данной,Чтобы добиться цели желанной.Я слишком вознесся в мечтаньях своихИ слишком позволил себе возгордиться.Желаний великих, но всё же не злыхХочу исполнения ныне добиться.Природа моя выше всех остальных,Я слишком прекрасен, чтобы склониться [51].Если стремление мятежника описывается как непреодолимый и одновременно безумный импульс, то его сумасшествие сопровождается иллюзией безнаказанности: будучи чистым духом («у меня есть бесстрастная и божественная сопричастность»), Сатана полагал, что никогда не будет страдать от боли, причиненной огнем и льдом, ждущим его [52].
Акт бунта отмечен изменениями Люцифера и его последователей, в один миг превращенных в ужасных и темных существ («красота столь светлая и чистая | вдруг помутнела и мгновенно потемнела») [53]. Главный герой целой поэмы, однако, вовсе не Люцифер, а сам Бог. Он сам движущая сила сценического действа; показывают именно Его гневное лицо, полное ярости от высокомерия демонов. В то время как у Альфано и Вальвазона кажется, что Божественность остается над противниками, здесь Он мстит за мятеж, и Михаил выступает в качестве инструмента его ярости («Воспоследует наказание, насколько вина ужасна <…>; злодеяние слишком серьезно, слишком велико», вскричал) [54]. На протяжении многих восьмистиший Создатель обрушивает на Люцифера и его последователей проклятие, что порождает другую версию происхождения преисподней. Обычно падение Сатаны вызывает реакцию земли, которая открывает глубокую пропасть; у Аньифило, наоборот, небесное предвидение уже придало форму тому место, которое предназначено для Сатаны. В своей гневной речи против мятежников Бог приказывает силам добра выслать Люцифера в центр земли в самую черную темноту [55]. Вечное правосудие уже приготовило место с цепями «из льда и огня», в котором два элемента, не отменяя действия друг друга, мучают Люцифера, а неспособность умереть становится худшим из наказаний [56]. Наконец, сам Бог накладывает вето на любое возможное покаяние Сатаны и его мятежников, потому что они не вызовут его прощение: «За безумной крайностью | не последует раскаяние, нет милосердия, | не поколеблется моя вечная доброта» [57]. Со страниц Аньифило сходит лицо разгневанного Бога, который, уверенный в своей победе, с началом войны открывает темницу, уготованную для мятежников. Как только голос с небес выносит дьяволу приговор, открывается преисподняя, и Люцифер, пронзенный болью, начинает думать, что для него было бы лучше быть навеки похороненным:
Голос ужасный с небес раздается,Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
«История вариаций» (фр.). – Здесь и далее, если не указано иное, прим. пер.
2
Здесь и далее перевод библейских цитат взят из Синодального перевода.