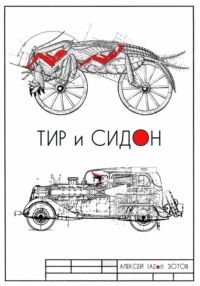Полная версия
Семь ступеней к миллениуму
– Как же он будет жить, бедолага, ведь он ничего больше не умеет! – сочувственно переглядываются кассирши. А ведь у людей были свои планы, появлялись новые творческо – эротические союзы. Когда Диана Птичкина вылезала из низкой двери киносъемочного «Рафика», она столь изящно изгибалась, что ее зелёное вязаное платье идеально облегало чудесные формы. Поскольку, кроме как на «Рафике» особо ездить на сюжеты не на чем, мало кого Птичка оставляла равнодушным. Она только заканчивала журфак, и беря интервью у директрис детских садиков частенько путалась в формулировках вопросов и то и дело слышала: «вы, наверное, имели ввиду… вы вероятно хотели спросить…» Но её природное обаяние с лихвой всё покрывало, ведь главное – смотреться в кадре. Вскоре Саня – Длинный на Птичкиной женился и зелёное вязаное платье теперь облегало округлившийся животик Дианы. А тут вдруг, общее сокращение, а как жить молодой семье? Почему мне помнится этот житейский сюжет? А в приложении к Сане – Короткому. Он занял у Длинного энную сумму денег и отдавать не собирался. Но, может и собирался, предварительно взяв денег у меня. Если помните Арчила Гомиашвили в роли Остапа Бендера, то легко представить себе и Саню – Короткого. С целью разжиться, он мне предложил встретиться в метро, привёз зачем-то «в подарок» пачку презервативов и запиленные винилы и при этом заговорщицки подмигивал. Я, конечно, от даров вежливо отказался. От юности моей не люблю мутных людей. Спустя несколько дней Короткий уволился и пропал. И вот Саня – Длинный буквально волосы на себе драл, не желая смириться с потерей крупной суммы: «он ведь был свидетелем на моей свадьбе, как он мог так поступить?!» (Будто это обстоятельство само по себе характеризует любого человека с чрезвычайно порядочной стороны).
Через некоторое время я попал в студию, где снимался видеоклип одной смуглой певицы. По сюжету она должна была, вихляя бёдрами, перемещаться по восточному базару, отвергая все предложения товаров, рук и сердец от назойливых торговцев, и в конце базара и клипа встречала любимого. Клип снимался с тележки одним длинным планом, на тележке стояла тренога, на ней – камера, заряженная дефицитным шестнадцатимиллиметровым «Кодаком», за камерой я узнал – его. В джинсовой бейсболке набекрень и сам очень джинсовый, Саня – Короткий выглядел круто и самодовольно. Одновременно позавидовав и порадовавшись за приятеля (ого, приподнялся Короткий), завис на подхвате до конца смены, даже взмок, катая тележку с Саней вдоль «базара», а после пропустили по пиву, вспоминая наших чудаковатых старых операторов и шутя про их анахроничные манеры и приемы киносъёмки.
– Скажи, Саня, а почему ты этот клип на плёнку, по старинке снимаешь? Всё телевидение уже перешло на видеокассеты. И дублей снимешь сколько угодно и результат виден сразу.
– Да ты что, чувак? Даже Амеры для своего MTV снимают только на шестнадцатимиллиметровый Кодак! На Бетакам только политбюро снимать. Все рожи бледные, безжизненные, картинка блёклая. То ли дело – Кодак. Кадр сочный, насыщенный. А за результат и качество я отвечаю, меня сам Кеосаян знает! Слушай, чувак, я там заныкал пару катушек. Есть кому загнать?
Потом прошло немного времени и желая узнать дату выхода видеоклипа я позвонил знакомым и узнал, что Саня Короткий получил денег, но умудрился запороть всю плёнку, снял всё в расфокусе, исчез, и теперь его все ищут. Вот ведь невезучий какой!
Совсем недавно я погуглил в яндексе и вот, что нашёл: Певица существовала и звали её (да, надеюсь и зовут) Диана Шагаева, а пела она тогда кавер на шлягер «Истамбул – Константинополь». Переснятая сцена с проходом по базару вошла в финальный монтаж, а дальше там такая фантасмагория, что лучше смотрите сами.
Флешбек №1. Детство. Семья.
Дед у меня был обалденный. Высоченный красавец, фронтовик, офицер ВВС. Да еще и сказочник. Десять лет подряд, с 1970 года (моего рождения), до 1980 года (своей кончины), он каждый вечер приходил к моей постели, садился рядом и рассказывал сказку, каждый раз новую, собственного сочинения. В основном это были истории про двенадцать гномиков. (Правда мило, что не гномов, а именно гномиков?) Его сюжеты захватывали и волновали, но голос дедушки, гипнотически убаюкивающий, неизменно и гарантированно меня усыплял. До того, почистив зубы и облачившись в пижаму, я нырял под одеяло и замиранием сердца прислушивался. Откуда-то издалека ко мне приближался голос деда Виталия, нараспев декламировавшего неизменную присказку: «маленький мальчик залез на диванчик, с диванчика на сундучок. Дайте в ручку пятачок!» В этом месте я протягивал ладошку, дед шебуршал в ней пальцами, собранными в щепоть, и волшебство начиналось. В конце семидесятых в нашей семье появился магнитофон, и вот тогда удалось через микрофон записать одну из сказочек на дрянную кассету, а хороших тогда еще не было. Туда же была записана исполненная мною песня, но услышав со стороны свой голос, я был настолько поражен его писклявостью, что надежно запрятал его и забыл – куда. Спустя годы эта советская кассета «МК – 60» нашлась (в отличие от голоса), но к тому времени магнитный слой с неё благополучно осыпался, а жаль.
Мы жили в трёшке, полученной дедом, в новом доме на четырнадцатом этаже. Из окна квартиры мама Лена наблюдала, как мы с её отцом в виде маленькой и крошечной фигурок степенно прогуливаемся по аллеям парка имени Гагарина, причём я, подражая деду, закладывал руки за спину, а если уставал, то он без всяких видимых усилий сажал меня на плечи. Ему это нравилось, и он часто катал меня по квартире из комнаты в комнату, а я обозревал интерьер с высоты, пока мне ещё не доступной. По выходным я любил забраться дедушке под бочок, и лениво водить рукой по его медалям, что рядами висели на настенном ковре. Они тихо и торжественно отзывались бронзовым звоном. Однажды, в 1976 году они зазвенели сами по себе, вместе с хрусталём в серванте. Люстры стали раскачиваться и дед Виталий, решив, что пришла пора помирать, лёг и сложил руки на груди. Однако необычную качку заметили все домашние и возникла нелепая версия, что началось землетрясение. Дед немедленно вскочил и стал руководить эвакуацией, которая закончилась, не начавшись, едва мы обнаружили дикую давку на единственной узкой лестнице нашей высотки. Пришлось всем, включая меня с плюшевым медведем в обнимку, вернуться обратно и сидя на стульях, словно на качающейся палубе корабля, надеяться на архитекторов и строителей нашего дома. Те не подвели, дом не пострадал, но жить стало тревожнее.
В начальную школу, которая была совсем рядом с домом, я ходил с удовольствием. Стараниями бабушки я уже в шесть знал грамоту и счёт, так что в первом классе мне нравилось, хотя и последующие не принесли мне проблем с успеваемостью. Мальчик я был спокойный, на переменах не носился, как угорелый, а когда одноклассники уходили в столовую, я оставался за партой и съедал свой завтрак, запивая чаем из термоса, или не запивая, в зависимости от того, разбился очередной термос, или нет. Я не ел со всеми из-за аллергии (или, как тогда говорили – диатеза) почти на все продукты. Проще было перечислить, что мне было можно. Когда гости с порога совали мне шоколадку, я убирал руки за спину и заученно повторял: «спасибо, но мне нельзя». На апельсины я смотрел как на яд, ложка мёда меня могла убить. Я ненавидел весну. Когда наступала пора цветения, я умывался слезами и соплями, с утра до вечера. В углах моего большого (в отца) рта вечно язвились «заеды» и мама ласково звала меня «мой Гуинплен». Наконец она отвезла меня в Филатовскую больницу, где пожилая еврейка стала втыкать в меня десятки игл, три раза в неделю. Взамен я ей предоставлял информацию о своих симптомах, в виде таинственных значков, подробно внесённых в специальную тетрадь в красной обложке. Вскоре новомодное иглоукалывание, или акупунктура, в сочетании с поеданием гадкого «мумиё» стали приносить плоды и рацион моего питания расширился. К тому времени я уже перешёл в третий класс и увлёкся лицедейством. Наставники мне доверили в школьной постановке играть крошечную роль скучающего кабачника, который ненавязчиво убалтывает Ивана сгонять за Жар-птицей. Я настолько вжился в роль, что немедленно был приглашён в Театральную студию при Доме Пионеров, причём единственный из всей труппы. На сцене мы погружались в магию. Каждое новое упражнение меня приводило в восторг.
Мы следовали друг за дружкой вдоль рампы и по каждому хлопку педагога принимали новые позы страха и ужаса.
С помощью пантомимы заставляли угадывать совершаемое действие.
С аппетитом «уплетали» поролоновую еду.
Повторяли все произнесенные ранее слова, добавляя новые, и совершали еще множество чудесных действий.
Как только мне стало казаться, что жизнь, наконец, заиграла новыми красками, в спортзале школы появился Михаил Алексеевич. Он обрядился в кимоно поверх красного спортивного костюма и объявил набор в секцию экзотической борьбы Дзюдо.
– Кто знает какие-нибудь приёмы? – гаркнул тренер. Нечистый дух меня дёрнул поддаться на эту дешёвую уловку, и я немедленно вызвался. Но видно тот, кто меня подтолкнул выйти вперед и попытаться свалить с ног тренера был так явственно виден, что тренер сразу задал вопрос: «что ты залазишь под меня, как чёрт под кобылу?» Я немедленно ретировался, но когда рассказал об этом случае дома, встретил необычное воодушевление.
– Решено, ребёнок должен стать дзюдоистом! – объявили мне своё парадоксальное решение домашние. Пока я совмещал посещение театральной студии с секцией борьбы, жить ещё можно было. Но вскоре меня поставили перед фактом, что со следующего года я буду учиться в другой школе, в экспериментальном спортивном классе, состоящем из одних мальчишек, на другом конце Москвы.
– А как же моя любимая театралка? – тоскливо спросил я.
– Придётся тебе выбрать одно направление, – отвечала мама.
– Я выбираю драмкружок.
– Нет, ты выбираешь Дзюдо!
– А это точно был я?
– Конечно, просто ты этого еще не знаешь, но в будущем скажешь «спасибо». Спорт укрепляет тело и дух, а от кривляния на сцене нет никакого проку.
Дедушка отнесся к скорым переменам в моей жизни с сочувствием. В этот вечер он особенно долго шаркал ногами, добираясь до моего диванчика в «большой комнате», а попросту – в гостиной. Грузно присел на край, пристально вгляделся в меня старчески слезливыми глазами, с добрыми лучиками по краям и начал свою присказку. Когда я протянул руку, то в ладонь мне, вместо привычной щепоти упала крупная тяжёлая монетка.
– Что это, дедушка?
– Это тот самый пятачок. Теперь настоящий.
– А зачем он мне?
– Завтра выходной, и этот день мы посвятим изучению Метро, а именно маршрута от Каховской до Новослободской. Я научу тебя спускаться под землю, покажу – где встать, чтобы не упасть на рельсы, куда зайти и прислониться, чтобы тебя не раздавили пассажиры. Покажу где делать пересадку на Белорусской, ведь сопровождать тебя в дальнейшем будет некому. А пятачок ты бросишь в турникет, и так оплатишь свой проезд.
– Дедуля, а сказка сегодня будет?
– Обязательно, но помни, что сказки иногда кончаются.
Под самый «олимпийский» новый год, а именно 31-го декабря, дед неожиданно умер, причём, как говорится: «ничего не предвещало». На самом деле «предвещало» и все пять сильных сердечных приступов незадолго до этого, означали то, что лопались слои аорты, один за другим и каждый раз могла помочь операция, но тогда еще не умели диагностировать аневризму. Мать была безутешна, даже бабушка Соня, кажется, не так убивалась. Хотя она и раньше много курила, а теперь она будто поселилась на кухне с сигаретой в руке. Начались траурные мероприятия, и мне маленькому, они казались чем-то невообразимым, я впервые столкнулся со смертью, и она меня шокировала. Я замкнулся в себе, лицо моё превратилось в маску, а мама трясла меня и требовала проявлений скорби. Я не понимал, чего от меня хотят, выслушивал обвинения в бесчувственности и не знал, как реагировать. Как-то раз, после очередного посещения могилы дедушки Виталия, точнее – ячейки колумбария с его прахом, мама с особой неприязнью оглядела мою сутулую фигуру и сказала: «какой неприятный у меня ребёнок, какой-то – «карлик Нос». Я немедленно ссутулился ещё сильнее.
Дома меня переселили спать в бывшую дедову кровать, напротив бабушкиной постели, что стояла в дальней комнате. Теперь вечером я уже не слышал шлёпанья дедовых тапок и любимой присказки, а прислушивался к стуку сердца. Мой разум был обременён знанием о тщете бытия, и казалось – оболочки моей аорты также лопаются одна за другой. Затем, в моём воображении книжный стеллаж отъезжал в сторону и моя кровать, закатывала меня ногами вперёд в жерло огненной печи, также как тело моего бедного дедушки.
Отец Володя мне деда заменить не мог. Сколько я не лез к нему с играми, он лишь криво сжав губы, смотрел куда-то сквозь меня, а если и учил чему-то полезному, то с криками и руганью, а затем прогонял, как ни к чему не способного. Впрочем, видел я его редко, лишь когда он возвращался в отпуск из далёкой Якутии, где зашибал «северную» деньгу, управляя отрядом вертолётчиков. Отдавая ему должное замечу, что семью он содержал в достатке, мы не бедствовали. На расстоянии он меня даже любил и присылал письма с обещаниями летних забав в стихах: «будем мы строить с тобой корабли, чтоб доплывали до дальней земли». По прибытии немедленно забывал об обещаниях, проводя в пьяном дыму с друзьями вечер за вечером. Я как-то услышал, что из воска можно лепить предметы. Нашёл свечку и не зная, как подойти к делу, рискнул отвлечь отца от общения. Он охотно откликнулся, взял в руки и стал мять и мучить эту свечу, пока она не рассыпалась в труху. «Не видишь, что ли, не лепится, ничего не лепится!» – кричал он мне в лицо.
Я любил болеть. Тогда даже отец мне улыбался, заглядывая – спрашивал: «как ты?» И не дождавшись ответа, выходил вон. Тогда ко мне возвращалась моя добрая мама, поила меня чаем с малиновым вареньем и шептала ласковые слова. На ночь она пела мне колыбельные со своим особым придыханием и включала уютный ночник. Я плыл на волнах жара и блаженства и засыпал.
Всё чаще, по вечерам, после работы мама и бабушка подолгу сидели на кухне в облаках сигаретного дыма. Софья Ивановна раздражённым и монотонным голосом что-то выговаривала Елене Витальевне и в чём-то её упрекала. Та лишь оправдывалась и плакала, потом в слезах уходила к себе и закрывалась. Бабушка еще некоторое время молча сидела и загадочно улыбалась.
Мамины мигрени участились. Меня не пускали к ней в комнату, когда она, изнемогая от боли выла, закусив подушку. Я сидел за стеной, слушал равномерный стук, с которым мама билась головой о стену и ждал, когда приступ её отпустит и она, наконец, уснёт.
Подобно тому, как луч солнца золотого, вновь показывается нам во всей красе из-за туч, после каждой чахоточной зимы и слякотной весны наступало бодрящее лето. С наступлением каникул вся семья начинала сборы в Казань, где жила мама отца – бабушка Надя. Она владела половиной домика в дачном посёлке, который я постоянно видел в своих сладких грёзах. Едва в открытое окно начинали тянуться сладкие ароматы прелой земли, я умолял закрыть форточку, иначе: «меня выдует в Зелёный Бор». Году этак в семьдесят пятом сборы на поезд были отменены в связи с важным событием. Отстояв очередь и получив заветный ордер на приобретение автомобиля «Жигули» одиннадцатой модели (ВАЗ 21-01 с форсированным двигателем), семья торжественно прибыла на автостоянку, где на нас дружелюбно смотрели круглыми наивными глазами сотни необъезженных «копеек». Предстоял нелёгкий выбор цвета – жёлтый или голубой? Жребий был брошен и впервые мама, папа и Алёша загрузились не в душное купе поезда, а в салон с запахом «новая машина». С тех пор мы уже каждое лето часов пять утра выезжали из дымной Москвы, а часов в одиннадцать вечера нас уже встречала казанская бабуля на кухне со своими неизменными пирогами с луком и яйцом, с малиной, с яблоками, с рисом, с картошкой и прочее слюнотечение. В Зелёном Бору с родителями происходило волшебное преображение. Мама снова превращалась в ослепительную красавицу и в купальнике на волжском пляже притягивала взгляды восторженных мужчин. Рядом с ней мускулистый отец в очках – «пилотах», снова выглядел героем – авиатором. Он учил меня плавать и ничто в моём неумении не вызывало у него раздражения. Мама, глядя на наши водяные забавы заливисто смеялась и сверкала на солнце жемчужными зубами. Позади нас, за песчаной полосой, за сосенными посадками, на нас одобрительно глядел густой лес, сидя как в театре на возвышающихся террасами холмах и призывно махал зелёными руками… Да, такое было время…
Ступень Вторая. Выписка из трудовой книжки: 01.06.1992. Творческо – производственное телерадио – общество «Радар». Принят на должность телеоператора сценарно – проектной студии.
Служу Советскому Союзу
После того, как «Телекинохроника» закрылась, начался долгий период моих скитаний по бесконечным телекоридорам. Поминая Фараду и его «ну, кто так строит», я стучался во все двери унылого "олимпийского" корпуса с неясными намерениями. (А, кстати, ту сцену из фильма "Чародеи", снимали именно там). Наконец, за одним из белых прямоугольников мне повстречались вежливые люди, которым я отрекомендовался кинооператором, что, конечно, было чистым блефом. Очень вежливо мне предложили немедленно выехать с ними на съёмки интервью с высокопоставленным генералом. От таких предложений не отказываются! Нежно обнимая редакционный «Бетакам» и пытаясь вспомнить, какие кнопки на нем нажимать, я оглянулся на табличку на двери крошечного кабинета. На ней было написано: Телерадиостудия «Радар», редакция программы – «Служу Советскому Союзу». Ого – ничего себе! Тут позвольте небольшую справку. Дело в том, что современному читателю эта уставная фраза знакома, но название такой передачи уже никто не помнит.
Справка: «Служу Советскому Союзу» – еженедельная телепередача «о воинах и для воинов", выходившая на ЦТ по воскресеньям в 10:00, сразу после передачи «Будильник» (с повтором по понедельникам). Просмотр телепередачи был рекомендован, ни много ни мало, ГПУ Армии и Флота. Время для просмотра телепередачи в воскресные дни отводилось в распорядке дня каждой советской воинской части. «Служу Советскому Союзу» была самой рейтинговой телепередачей в Советском Союзе после информационной программы «Время» (была даже такая команда: "рассаживаемся на просмотр") – её смотрели около 30 % телезрителей («Время» – 55 %).
На тот момент популярность передачи была уже на излёте, редакция занимала крошечную комнатушку без окон и дверей, в которой было не повернуться. У стены стоял огромный катушечный магнитофон, за которым стоял зелёный человечек в форме майора и отчего-то воровато зыркая по сторонам, быстро монтировал радиоверсию передачи. Прослушав фрагмент записи, он вытягивал плёнку и ножницами, вырезал неугодный кусок, выбрасывая его в корзину, а стыки склеивал. На меня он не обратил никакого внимания и смотав свои обрезки на катушку, смотался и сам. Я не заметил, чтобы он ладил с моими будущими компаньонами, всегда безмолвно появляясь без шума и так же исчезая. Его повадки походили на шпионские и перед последним своим исчезновением он успел мне шепнуть:
– Ты смотри, будь осторожнее с этими хмырями.
А вот Димочка и Валерчик (так они мне представились) были людьми открытыми. За пять минут до того, как я залихватски предстал перед ними, они обсуждали, где им взять оператора, поскольку некий Вольдемар опять запил. Потому и разглядывали сейчас меня изучающе, но не очень придирчиво. Я как раз недавно очень удачно прикупил в переходе высокие шнурованные ботинки, заправил в них болотного цвета «бананы», а поверх турецкого свитера «с орлом» надел прямого кроя куртку цвета хаки, так что мой внешний вид, думаю, сыграл решающее значение. А внешний вид Димочки и Валерчика произвел на меня поначалу противоречивое впечатление. Очень уж они странную пару составляли, сидя вместе за одним столом (студия была очень тесная). Если Димочка, будучи военкором, был просто по-девичьи красив, обаятельно улыбаясь и хлопая на меня огромными ресницами, то крупноголовый и круглолицый Валерчик пугал меня совершенно зверским выражением лица. Впрочем, как я узнал вскоре, нрава он был тихого и кроткого. Ну, вот, раз я им так вовремя подвернулся, то они меня и взяли собой. В принципе, Валерчик, как выяснилось, мог и сам снять сюжет, он это умел, но предпочитал вести организационные работы, а камеру недолюбливал, поскольку больше привык ощущать на плече РПГ и прочие «базуки». Ехали мы на сюжет долго, но только из-за того, что надо было попасть на особо охраняемую территорию и нас много раз проверяли и шмонали на различных КПП. Это было особо замечательно, с учетом того, что Димочка и Валерчик меня впервые увидели только сегодня. Вся эта кутерьма меня сильно напрягала, но ясно было, что назад пути нет и надо этот шанс отработать по – полной. Так что в кабинете генерала, восседавшего за длинным столом я нашел лучшую точку, зафиксировал по уровню камеру на штативе, приблизил трансфокатором и откатил назад картинку (дабы не съехать вбок при записи), экспонометром выбрал тёмные участки. Потом разогнал эту темноту портативным софитом, микрофон поставил так, чтобы он не лез в кадр, но при этом не фонил при записи и еще пуще расстарался, всячески демонстрируя, что дескать я – ого-го! Камера, мотор, Димочка задает вопросы, генерал обстоятельно отвечает, из его речи выстраиваются победные реляции, Димочка важно кивает и согласно машет ресницами. Все прошло как маслу, в этом я убедился, просмотрев запись в машине, по пути в студию, через черно-белый видоискатель «Бетакама». Но вот, что-то я упустил, беспокойно думалось мне тем вечером перед сном…
На следующее утро, гладко выбритый я, спозаранку, в нетерпении, примчался в студию. Димочка вежливо, снисходительно улыбался, а вот Валерчик отводил взгляд, но, когда кидал его на меня, буквально прожигал насквозь. Кассета была уже заряжена, цветной монитор замерцал, и о ужас, с него на меня воззрилась сине – фиолетовая физиономия на аквамариновой шее, которая торчала из голубого мундира!.. Так вот, что я упустил – не взял баланс белого цвета. Первые электронные камеры, несмотря на свой большой вес и габариты (а ещё и аккумулятор приходилось носить отдельно, на сумке через плечо), были ограничены в функционале и не могли самостоятельно отличить дневной свет от искусственного. Цветовая температура дневного освещения составляет в среднем 5500 Кельвинов, а широко тогда использовавшиеся лампы накаливания – 3200 этих самых Кельвинов. Наш глаз, а точнее мозг, мигом меняет синюю уличную картинку на жёлтую домашнюю, а вот электроника начала девяностых этого не умела. Генерал сидел в помещении, а камерой до того кто-то снимал на улице, а я её не перестроил. А делалось это так; перед объективом помещали лист бумаги и нажималась специальная кнопочка, вот и всё. В общем – резюмировали Дима с Валерой – все с тобой ясно. Исправляйся, учись, набирайся опыта. В штат не возьмём, но на сюжеты будем вызывать, и платить – сдельно. По рукам? Вот и славно!
Надо заметить, что мне сделали хорошее предложение. В целом денег выходило больше, чем, когда я работал ассистентом кинооператора. Немудрено, так как трудно тогда было найти работу, на которой бы платили меньше восьмидесяти, ну или ста рублей. Кроме этих унизительных рублей еще и приходилось сносить обзывательства, типа – «старший помощник младшего дворника». Всё решительно в прошлом! Пошла серьезная работа, сплошные выезды и командировки, но есть одно «но». Надо постараться не спиться. Пили эти суровые люди самозабвенно. В одной воинской части после дневных забав в стиле «на поле танки грохотали», я едва успел вытереть пыль с объектива, как в штабе, где нам выделили комнату для оборудования, пронеслась весть о вечернем банкете в честь «тевизионщиков». Тут же мимо нас стали буквально бежать к выходу все сотрудницы штаба. Первыми, логично, что быстрее бежали те, у кого ноги подлиннее. За ними семенили те ноги, что покороче и даже почтенные матроны с одышкой, не стесняясь седин, бодро стучали каблуками по лестницам. Мне бы тогда уже смекнуть, что к чему и скоротать время в подсобке, но – нет, попёрся я с Димочкой и Валерчиком на этот адский «банкет». Поляна в зале для торжеств была накрыта конечно знатная, но закусывать у бравых вояк было, видно, не в чести. Они стали, соревнуясь в скорости и краткости произнесения тостов стремительно надираться. Причем хлестали неразбавленный спирт из неопознанных огромных бутылей. Я не сразу опознал их содержимое и махнул полстакана не глядя, но сразу пожалел, поскольку башню сорвало знатно. Дальше мне оставалось лишь глазеть через свое искажённое, как в кривых зеркалах восприятие за нарастающей энтропией, не в силах ни на что повлиять. Тела защитного цвета разной высоты и плотности бурлили, перекатывались, обнимались, махались и валились вокруг в нарастающем темпе безумного танца. В уши лился монотонный гул и дикие выкрики, состоявшие из бесконечно перемежаемых конструкций из одних и тех – же междометий и гениталий. В какой-то момент стала ясна подоплёка дневного массового дамского побега, так как в одном из неприметных помещений была обнаружена несчастная жертва, причем опознана в своем гендере по тонкому писку. Масса галантных кавалеров немедля устремилась на писк и излила весь арсенал комплиментов и признаний, а некоторая часть наиболее возвышенного офицерства изволила немедля стреляться на дуэлях. Пискле удалось, не без ущерба для обмундирования вырваться из амурных сетей и выпрыгнуть в окно (кажется, было не высоко), где ее немедля подхватили и унесли в ночь. Я глянул на своих товарищей, но не обнаружил ни тени смущения, как видно, все происходящее было им не в первой. На красивом лице Димочки вообще играли грёзы, будто он в настоящий момент был далеко отсюда, в неких благоухающих садах. Валерчик – же был предельно сосредоточен, как в гуще боя и склонившись сообщил мне на ухо военную тайну: «держись, братан, с утра выезжаем БЖРК снимать». – «Бэжеерка» – проблеял я и немедленно уснул, упав лицом в салат…