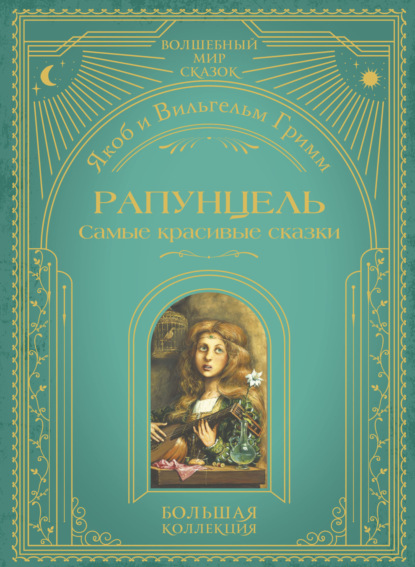Полная версия
Дочь болотного царя. Сказки
Бедняга схватил хозяина за руку и вскричал: «Йоханна!» Но крик его заглушила музыка; хозяин же кивнул в ответ головою и сказал: «Да, её зовут Йоханной!» И он показал на печатный листок – там стояло её полное имя.
Да, это был не сон! И весь народ ликовал; ей бросали цветы и венки, и стоило ей уйти, её опять звали назад; она уходила и выходила, уходила и опять выходила.
На улице карету её окружила толпа, выпрягла лошадей и повезла её. Кнуд был впереди всех, веселее всех, и когда они добрались до великолепно освещённого дома, где жила Йоханна, Кнуд встал перед самыми дверцами кареты. Дверцы отворились, и она вышла. Свет падал ей в лицо; она улыбалась и благодарила всех; она была растрогана… Кнуд не сводил с неё глаз, она тоже посмотрела на него, но не узнала. Господин со звездой на груди подал ей руку: это был её жених, толковали в народе.
Кнуд пришёл домой и – котомку на плечи! Он хотел, он должен был вернуться на родину, к бузине, к иве… Ах, под иву!
Хозяева просили его остаться, но все уговоры были напрасны. Они говорили ему, что дело идёт к зиме, что все горные проходы уже занесены снегом. Нужды нет, он мог идти за медленно двигающейся почтовой каретой – для неё-то ведь уж расчистят дорогу!

И он побрёл с котомкой за спиной, опираясь на свою палку, взбирался на горы, опять спускался; силы его уже начали слабеть, а он всё ещё не видел перед собою ни города, ни жилья; шёл он всё на север, над головой его загорались звёзды, ноги его подкашивались, голова кружилась… В глубине долины тоже загорались звёздочки, словно и под ногами у него расстилалось небо. Кнуду нездоровилось. Звёздочки внизу всё прибывали и прибывали, становились всё светлее, двигались туда и сюда. Это блестели в одном маленьком городке огоньки в окнах домов, и, когда Кнуд сообразил, в чём дело, он собрал последние силы и кое-как доплёлся до постоялого двора.
Целые сутки пробыл он тут; всё тело его просило отдыха. Сделалась оттепель, в долине была страшная слякоть и грязь, но на другое утро явился шарманщик, заиграл датскую песню, и Кнуд сейчас же отправился в путь. Много дней он шёл не останавливаясь, торопясь изо всех сил, как будто дело шло о том, чтобы застать в живых домашних. Ни с кем не говорил он о своей тоске, никто не мог и подозревать о его глубочайшем сердечном горе; да и что за дело людям до такого горя – оно неинтересно; нет до него дела даже друзьям; у Кнуда, впрочем, и не было друзей. Чужой всем, он пробирался по чужой земле на родину, на север. В единственном полученном им больше года назад из дому письме говорилось: «Ты не настоящий датчанин, как мы все: мы ужасно привязаны к своей родине, а тебя всё тянет в чужие страны!» Да, родители могли так писать – они ведь знали его.
Смеркалось. Кнуд шёл по большой дороге; воздух уже становился холоднее, а сама почва – ровнее, больше встречалось лугов и полей. У дороги стояла большая ива, и всё вокруг казалось таким родным, совсем как в Дании! Кнуд сел под иву; он очень устал, голова его упала на грудь, глаза закрылись, но он ясно чувствовал, что ива ласково склонилась к нему ветвями. Дерево было похоже на могучего, сильного старца… на самого батюшку!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Сусальное золото – очень тонкая золотая фольга, используемая в декоративных целях.
2
Скиллинг – старинная мелкая монета в Дании.
3
Конфирмация – в западном христианстве обряд принятия в церковную общину подростков, достигших определённого возраста.
4
Риксдалер (ригсдалер) – старинная денежная единица в Дании; 1 риксдалер = 96 скиллингов.