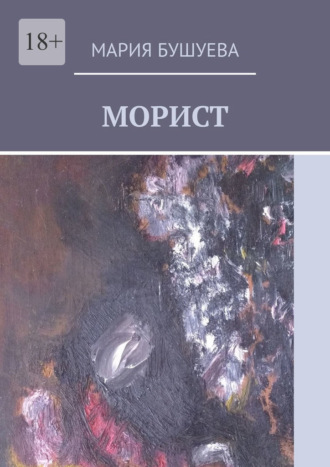
Полная версия
Морист
– Он магически действует на слабый пол, особенно, я слышал, на актрис театра «Современник»…
– На актрис? Театра «Современник»?
– …зубную боль у них снимает, радикулит лечит…
– И фригидность тоже! – в приемную просунулась голова импозантного.
– Фригидность? – удивился Сидоркин.
Дверь в директорский кабинет начала приоткрываться. Голова импозантного тут же исчезла.
– Я тоже пошел, – Сидоркин, торопясь, чуть не поскользнулся.
Каков гусь все же Николай Каримович, мучительно размышляла секретарша, провожая невидящим взором посетительниц Льва Александровича, если уж слухи до нашего тихого зава докатились, значит, слава его гремит, и неужто он и в самом деле фриги… дность лечит, представляю, что с бабами творится…
– Вы что, заснули?
– Нет. – Она вздрогнула. Но, слава богу, шеф явно в духе. – Я слушаю.
– Завтра, – шеф понизил голос, – у меня будет Сергей Владимирович, встреча очень важная, а у него остеохондроз, просто замучил его, беднягу, так позвоните нашему босолапому, пусть прибудет ровно в двенадцать. Расплатимся, если Сергею Владимировичу полегчает, по высшей ставке.
* * *
Он заскользил взглядом по кабинету, сверкнул в глубине памяти лед школьного катка, почему вспомнилось, а, да, я заскользил взглядом, но чем-то они и в самом деле похожи – и у той плавали в глазах какие-то загадочные туманности, он намеренно не смотрел на Наталью в упор, чтобы не смущать – она робела, и он с удивлением отметил, что ощущает ее робость как свою, не моя ли, глупость, она сидит вон как напряженно, спинку прижала к черному креслу, боится шевельнуться, пальцами тонкой левой руки вцепилась в запястье правой, стигмы выступят у тебя, девочка, да, вдруг ответила она на его вопрос, не понимая совершенно, что и зачем он спрашивает, да, повторил он, опять удивившись, потому что понял, он не помнит вопроса, о чем и к чему, – это загадочные туманности из ее глаз, медленно выплывая, уже окутывали своей ароматной вязью его разум, они сплетались и оседали магическими кругами на каждую ветку его мозга, пока дерево не исчезло совсем в разноцветном тумане, в тихих кружевах вальса на освещенном желтыми, красными и голубыми прожекторами декабрьском льду под нежными танцующими снежинками, оплела, закружила девочка, оплела, шептал он, лежа вечером в постели с журналом, оплела, а надо было заставить себя думать о работе, предстояло важное для института, он, пусть и старомодно сие желание, так хотел что-то для института сделать, но девочка в красном свитерке, в белой юбочке, разноцветным туманом обвила дерево его жизни, обвила, и он, как ни пытался, не мог рассмотреть, что же там, где ее нет, показалось вдруг, что за цветной дымкой пустота и никогда не было никого, все дела мелькнули картонными декорациями, рухнули и сразу обратились в пыль, заискрившуюся в лучах прожекторов, поплывшую голубыми и красными снежинками, желтой редкой пыльцой оседавшую на лед, – девочка танцевала, везде-везде была теперь только она, даже на фотографии журнала лунно светился ее профиль, и в его полусонной дреме она танцевала в белых ботиночках прямо на полу, вспыхивая юбочкой, и он подумал, как больно, конечно, острыми коньками прямо по коже, по коже, по сердцу – и очнулся. За окном шел снег, белый, скромный снег, он осядет на землю, он впитает в себя черное дыхание заводов – и почернеет…
Снег мел, мел, свиридовская метель, так, наверное, Таню, так, наверное, Маша в «Метели», так, так, хвостик горжетки взлетал и мягко ударял по лицу, да, да, до завтра, Инесса Суреновна, до завтра, ах, как прекрасно все-таки, что я тебя вытащила к нему, дуреху, ну, я пошла, пока, я на троллейбус, так мне отсюда удобнее, а ты на метро? Конечно, конечно, до завтра, и мел, мел, откуда это, свеча горела на столе, свеча горела, да, вспомнила, а горжетка мягко ударяла по разгоряченной щеке, он, он, неужели он, такой странный, такой непонятный, умный, а сколько он знает, снег, снег, падал, кружился, мел, мел, белый, как мел, в детстве, помнишь, Наташа, ты писала стихи? Кто это говорит? Твой ангел-хранитель, вальс-вальс, мне посчитали, составили график – у меня оказалось их два… Два…
– У меня два ангела-хранителя, – сказала Наталья ему по телефону.
– Со мной и три не справятся.
* * *
– Сергей Владимирович все, что надо нам, подписал. – Шеф усмехнулся. – Подготовьте документы. Наше дело удалось.
– Вы же говорили, что еще Самсонов.
– Пока завершим первый этап. Потом возьмемся и за Самсонова. Ко мне в четыре пятнадцать будет дама, я закроюсь, а вы постучите. Мне надо поспать. Я устал.
Он закрылся. Она достала косметический набор, подвела глаза, подчернила ресницы. Завтра – среда.
Заглянула Николаева.
– У себя?
– Уехал по делам.
– Что за бабы к нему приползали? Я на лестнице их вчера встретила, усатую помню, а вторая – смазливенькая такая?
– Деловые контакты.
– Не ври, Сонька.
– Ну чего тебе надобно, Николаева? Ты чего, с ним трахаться жаждешь? Напрасно. Он с сотрудницами ни за какие коврижки ентим делом заниматься не станет. Он карьерой дорожит.
– А с тобой?
– Николаева, играешь с огнем!
– Да что ты! И что же ты мне можешь сделать?
– Да мне стоит лишь намекнуть ему, что ты такие гнусности распространяешь, улетишь на биржу труда, как миленькая!
– Ну, Сонька! – Николаева приподняла юбку, словно собирается идти по воде, и выскользнула в коридор.
Как мне она надоела, дура дурой, и ноги, как у зайца, небось мечта у нее с детства стать женой генерала или директора, они все, такие вот блеклые тихони истеричные, об этом мечтают. Скорее бы завтра.
* * *
…та лукавая девчонка на катке; сначала сама игриво пыталась уронить его в снег, смеялась, запрокидывала в смехе голову, ее шапочка с помпоном упала, он скорее наклонился за ней, и она наклонилась, они даже чуть-чуть ударились лбами, и, торопливо выпрямившись, он схватил ее за плечи и поцеловал неловко не в губы, нет, куда-то между холодной щекой и подбородком, уловив чуткими ноздрями кошачий запах ее свитерка, поцелуй только слегка задел ее, словно снежок, и откатился, а она сердито надулась, рукой отпихнула его – противный! – натянула поданную им красную свою шапочку, а поцелуя уже нельзя было отыскать в белом снегу, и он, сняв ботинки с коньками, втиснувшись в старенькие валенки (хорошо, что шалунья не видит, вот бы стала насмешничать – ты, как мой дедушка), одиноко брел и горько думал, что нет в его жизни ничего хорошего, болеет мать, а гадкая соседка прижимает его к себе, едва встретятся они на лестнице в подъезде, и пьяно дышит… И поцелуя уже было не найти, не найти в белом снегу… Как же теперь с Наташей, какая ерунда – бояться того, что не сумеешь вдруг прочитать из букваря – ма-ма мы-ла ра-му, Тамара заглянула к нему в кабинет – обедать? – он кивнул, да, конечно, съесть куриную ногу, заглотить тарелку супа с плавающими картофелинами, выкурить сигарету и успокоиться: быт и любовь – вечное противоречие; да и не смог бы он уже ничего изменить, поздно, возраст не тот, квартиру новую не получишь, слишком сложно все стало, а покупать ужасно дорого даже для него с его нормальными честными деньгами, а где Тамаре и сыну жить, он ведь не подлец – выгонять их обратно к теще и самому жить здесь с молодой женой, да, и моложе она его все-таки не на десять – на двадцать лет, значит еще год, другой, третий, он станет обузой, пойдут болезни, охи, скрипы, она должна будет превратиться в сиделку, а счастья у нее и так немного, дурацкая была любовь и дурацкий характер, как жить с такой ранимостью – точно без кожи, но почему, почему, только подумаешь о Наташе, вспоминается та – лукавая игрунья – может быть, закон жизни: из маленьких шалунишек вырастают большие грустные мечтательницы? Он вышел из кабинета – поплелся в кухню – опять курица! – возмутился – тысячу раз говорил, что надоело! – мяса не могла купить! – мне осточертело глодать куриные конечности! – он еще долго ворчал, придирался ко всему – бульон жидкий! и гречка пережаренная! и кисель – ты что, на поминках?! – отталкивая стакан брюзжал он – я терпеть не могу кисели! стакан соку прошу тебя полгода! – так позавчера ты выпил сок, возразила жена спокойно – позавчера! скажи еще десять лет назад!
– По-моему ты влюбился, – сказала жена внезапно, – и не очень удачно. В других случаях ты порхаешь.
– Порхаю? – Он выпил кисель, вытер салфеткой губы. – В каком это смысле?
– В прямом и переносном.
* * *
Николай Каримович с вежливой полуулыбкой, босой, стоял на ковре, ожидая от Льва Александровича новых указаний.
– Тут сложный случай, – задумчиво, после непродолжительного молчания, проговорил шеф, – Самсонов, по-моему, совершенно здоров. А без его подписи мы горим. А если, мы горим, синим пламенем пылаю лично я, и соответственно…
– Сегодня здоров, а завтра болен, – сказал Николай Каримович, не поднимая глаз и продолжая улыбаться краешками губ.
– Но сегодня здоров!
– А как в его семье? Жена? Матушка? Детушки малые неразумные?
– Ты гений. – Лев Александрович лихорадочно закурил. – Я слышал от кого-то, что у его матери, как же его… ну, когда нога волочится?
– И – ши – ас.
– Он, сволочь! Ишиас! – Лев Александрович даже присвистнул. – Ну-ка, ну-ка… – Он уже стал было нажимать кнопки телефона, но призадумался. Нет, надо как-то потоньше. Сразу предложить свои услуги грубо, Самсонов, бестия, не так глуп, чтобы не догадаться, почем фунт изюма.
– Завтра утречком, Николай, позвони-ка ты мне сюда. Я жаворонок, можешь звонить уже в восемь.
Мануалотерапевт, сладко расплывшись, вытек из кабинета.
Он остался один. Порой, как вот и сейчас, охватывало его, нет, наверное, сказать охватывало будет не совсем точно, наступало на него, нет, как-то звучит слишком воинственно, настигало – как старость? – нет, нет, он закурил, рассеянно глядя перед собой на стеллажи, заполненные иностранными и российскими энциклопедиями, корешки которых там и сям загораживали цветные и черно-белые фотографии, где он был заснят с коллегами из других стран, нет, слова нужного он не находил. Может, так, он, стряхнув пепел, усмехнулся, а ЛУЧШЕ ДАЖЕ И ВОТ ТАК, – чувство реальности происходящего порой покидало его, будто он проваливался куда-то в свою совсем другую жизнь, возможно, уже бывшую с ним, а, скорее, не бывшую и не будущую, а параллельную этой и, как пустой коридор, не заполненную ни лицами, ни событиями, но словно ожидающую его, и, провалившись на несколько минут в нее, он начинал ощущать себя совсем другим человеком, он не мог точно определить, каким именно, но в минуты эти все, чем занимался он активно здесь и теперь, его институт и его директорство, его семья и его т. н. социальные контакты, все, все сразу воспринималось как совершенно чужое. Он бродил по пустынному коридору, понимая, что в нем он никогда бы не встретил ни прошлых своих жен, ни нынешней, и никогда бы не стал заниматься тем делом, которое там, в другом, параллельном мире, считает главным в своей жизни, – и такая острая тоска сдавливала ему грудь, что он, усилием воли, заставлял себя возвращаться к привычному ходу жизни, начиная звонить по телефону или играть с сыном. Наверное, в том пустом коридоре за плотно закрытыми дверьми скрывались какие-то люди, люди из его другой судьбы, возможно, что за одной из них притаились его три верные подружки, его милые мерзавочки, но даже их голоса были не слышны, и коридор, пугая неизвестностью, той же неизвестностью и тянул. А здесь все было так понятно и потому скучно, все окружающие были запрограммированы на одно и то же, что вновь он, преодолев тревогу, отправлялся странствовать по долгому коридору, откуда его привычная жизнь представлялась оптическим обманом, изображением, полученным в результате какого-то загадочного смещения, и подобным картине далекой битвы, увиденной ясновидящим совсем в другом месте, и в другое время. Разумеется, меня в сущности нет, потому что, если бы я был, как пел несколько лет назад милый Боб, все это было бы, наверное, больно.
Пыль тихо плыла вдоль кабинета, как миллиарды крошечных Летучих Голландцев. Давно уже нудно пищал телефон.
Он снял трубку. Звонила Натали.
– Мне бы… я не знаю… но мне бы…
– Приезжайте ко мне на службу в половине шестого, и все расскажите, – сказал он, – вместе пешочком пройдемся до метро, хотя, откровенно говоря, я терпеть не могу ходить пешком! Я испорчен цивилизацией. Я понимаю, что правильнее жить в глухой деревне и учительствовать в сельской школе, но я уже этого никогда не смогу.
– Я вас боюсь, – сказала она робко, вы для меня… как памятник Петру Первому. А, тот самый Медный Всадник, захохотал он в трубку, на чьей голове, а точнее будет сказать даже и вот так – на двух головах коего птичий клозет.
Наталья смутилась. Она не так воспринимала действительность. Поднимая свою мечтательную головушку, дабы разглядеть красоты скульптуры, она вспоминала стихи, абсолютно не замечая воробьев, расположившихся, как это свойственно мелким птицам, выше царевых очей. Она жила смутными представлениями детства, и то, что в детстве запало ей в душу, имело не только безграничную власть над ее чувствами, но и не осознаваемо определяло и ее выбор, и ее поступки. Чтобы принять и полюбить нового, неизвестного ей человека, нужно было отыскать в нем или придумать пусть небольшое сходство с кем-то, кто был ей мил и дорог, когда она была ребенком. У Набокова в чем-то, не помню, в чем, вроде, есть такая, как ты, героиня, сказал он ей. И у меня порой, призналась она, возникает чувство, что я – не живой человек, с плотью и кровью, а именно чья-то героиня, не властная совершенно над своей судьбой, сочиненной мне кем-то…
– …мне бы хотелось, чтобы наши отношения стали близкими! Знаете, у меня была приятельница, я ее звал Козявкин она вышла замуж, я был к ней, наверное, привязан, такая странная была зависимость, будто она и я образовывали какую-то одну, единую систему, говоря псевдонаучным языком, и вот, мне почему-то показалось, что у нас с вами может получиться что-то подобное…
* * *
Секретарша полагала, что бравурное настроение шефа может быть вызвано только двумя причинами: увлечениями и журналюгами, берущими у него интервью, интерес к делу у любого человека на земле априори ставился ею под сомнение. Шеф за дверью напевал нечто мажорное. Она лениво печатала на машинке, листала журнал мод, покуривала и поджидала Николая Каримовича.
Хитрый мануалотерапевт не спешил. Канал к мамаше Самсонова он уже отыскал, но требовалось развернуть дело так, чтобы стало понятно – ее выздоровление зависит исключительно от Льва Александровича. Шахматная композиция первой степени сложности, думал Николай Каримович, не умевший играть ни в шахматы, ни в шашки. Пожалуй, без секретуточки не обойдемся!
– Николай Каримович, голубонька, у телефона.
– Я… заждалась вашего звонка.
– Дела, милая, дела. В какое время наш с вами сеансик?
– Шеф назначил какую-то встречу на семнадцать тридцать, в шесть пятнадцать буду вас ждать.
– Мне бы, рыбонька, сегодня не стоило, пожалуй, с ним встречаться.
– Он всегда уходит ровно в шесть.
– Ага, ага, ну что же, значит, до свиданьица.
И он пришел. Босой, как всегда, сияющий плоским длинным лицом, бороду почесывающий узловатыми пальцами с черным кольцом на мизинце.
– Ох, наверное, люди на тебя глазеют, – уже после массажа, и внешнего, и деликатного, сказала она, лежа с открытой грудью. – Этакий, мол, чудак.
– А че ж не поглазеть, на то они и зеваки. Мне-то от их скудомыслия не убудет и не прибудет.
– Прибудет-то, пожалуй, прибудет…
– И то верно, золотая моя. – Он пощекотал ей грудь, влажными губами провел по руке. – Белоперстовая моя, а теперь – о деле. – Он изложил, что требуется от нее. – У меня завтра сеансик, подлечим бабульку.
Секретарша натянула джемпер, надела джинсы.
– С кем встречался-то наш, родимый? – Поинтересовался вдруг Николай Каримович. – С корреспондентом?
– С телкой.
– И какова? По-купечески дебела да обширна? Или в голливудском стиле?
– Да нет, – поморщилась секретарша. – Такая вот Таня Ларина.
– Это что ж означает, не понимаю я тебя, лапонька?
– Ну, тиха, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива.
– А коли боязлива, че ж по директорам-то лазит? Ой, ошибаешься, ты, милая, думается мне…
– Секретарши, как альпинисты и каскадеры, обычно ошибаются только один раз, – сказала секретарша, – профессия у них такая – разбираться в людях.
– И во мне, голубонька, ты уже разобралась? Ну, что ты обо мне сказать можешь? Что люблю я всею душою, чего жажду? Понимая, как суетна жизнь, зная, что окружающее нас – лишь майя, долг свой ощущаю я – долг врачевателя…
– Власти ты жаждешь, Николай Каримович, – сказала секретарша тихо, – и власть любишь всей душой.
– Не доделал, однако я тебе, голубонька, массажик…
* * *
Лиля Опилкина болтала по телефону. Она уважала себя, она знала себе цену, но давно, уже месяцев, наверное, шестнадцать назад, вдруг поняла свое призвание. Лилька, ругали ее все, ты же была самая умная в классе (в группе, в университете, во дворе, в компании), ты могла бы стать, ты кем только не могла бы стать с твоей башкой – даже министром могла бы! – как ты вообще решилась бросить универ, твой папаша, папахен, мамашхен, мамахен, матушка, папашка – правы, правы, правы! – ты губишь себя! Но Лиля, Лиля была умнее, чем думали они, только в другом смысле умнее – она поняла, что она, Лиля родилась не ученым и не министром, не писателем и не философом, а женой, да, да, именно женой гения общественно-политической, литературно-художественной или научной мысли, но не бизнеса. потому что деньги – только средство. А вы все балды. Я же – тень. Никто этого не видит. А я – тень. Антон Павлович, наверное, описал просто женщину, потрясающе уловив отражательную сущность женской природы, а не какой-то там особый социально вредный тип. И, причем, умную женщину.
– А ты своего гения уже отыскала?
Лиля глубоко задумалась.
– Отыскала, да?! Скажи!
…задумалась, и, как бы невзначай, да, и отключила связь. И встала, грудью мощной тряхнула, прислушалась: в кухне родичи что-то оживленно обсуждали. Папашина изворотливость вызывала у Лили уважение; он теперь читал жесткий обличительный курс «Деятельность коммунистической партии в советский период». А ведь карьеру начинал инструктором райкома…
Лиля заглянула в кухню. Мамаша обвесила всю кухню деревянными раскрашенными ложками, поварешками и половниками, купленными на Арбате, а над раковиной повесили полотенце в петухах и лапти.
– …мама, тебе не кажется странным, что России ты отвела кухню, а гостиную или, как ты выражаешься, зал, ты уставила китайскими вазами, ширмами и устелила китайским ковром? Как понять твою интерьеризацию?
Родители одновременно замолчали.
– Может быть, ты намекаешь, что Россия, не сумев вырваться к Европе, щедро представленной в твоей спальне журналами мод на английском языке и косметическими наборами, останется по сути своей Азией, и союз ее с Китаем…
– Я боюсь ума своей дочери!
– Чего ты ее слушаешь она просто болтунья!
* * *
…надо же было налететь! Не дома, у шкафа, а на проспекте. Поглядела косо. А эта сжалась, как улитка, сама в себя спряталась. Новая моя сотрудница. Вот, показываю город. Недавно переехала из Сергиева Посада. Гуманист. С усмешечкой. Да, я таков. Не забудь сначала разогреть курицу. Я из бассейна зайду к Тамарке (ленке, гальке, маринке). Не заплывай слишком глубоко. Спасибо, милый. И ты тоже. Почему, кстати, не на машине? Да так. Все-таки угрохала?! Да нет. Так почему?! Просто вот решила тебя встретить и прогуляться пешком. Ты же все жалуешься, что тебя никто не выгуливает.
– Это была моя жена.
Она промолчала. Поковыряла носиком сапожка снег.
Сняла, потрясла рукавичкой, вновь надела. Налетел случайный порыв ветра – а порыв ветра, Наташа, ведь всегда случаен, я прав? – и горжетка мягко ударила ее по раскрасневшейся щеке.
– Так как? – Он испугался, что она, сейчас огорчившись, ведь его жена в норковой шубе, шикарная такая, решит с ним больше никогда не встречаться. – Я… я буду помогать вам, Наташа, так сложно пробиться в столице, особенно певице, и вам, простите, не семнадцать, а я… я смогу устроить вам сольный концерт, музканал, рекламу, я, видите ли, в некотором смысле, главный кролик, и у меня кругом родственники и знакомые, мне вас так хвалила Инесса Суреновна, она – умнейший человек, и у вас, по ее словам, очень хорошие данные.
Она смотрела на него без всякого выражения – как манекен.
– Так – когда? – он вдруг ощутил себя некрасивым, сморщенным воздушным шариком, из которого выходит воздух. Воздушный шарик с дыркой. Сволочь Фрейд, подумал мельком, теперь, кроме эротических, никаких других образов в пространстве не осталось.
– В субботу в три вы свободны?
– В субботу в три, – повторила она.
– Да, в субботу в три.
* * *
А Максимилиан шел тихо, как будто был вовсе не мальчиком, а только идеей мальчика, представлением знаменитого философа, его родственника по крови, ты, Катька чего уже не узнаешь в привычных ситуациях? Лилька, откуда? От… Только не кизди, что от верблюда. Из библиотеки. Врешь ведь. «Врешьведь» – что за странный термин? Не понимаю. И вообще, любопытство – не есть любознательность, движущая ум к проникновению в тайны природы, любопытство есть слабость ленивого духа, обреченного ползать… Пока, Катхен, тороплюсь! Встретимся под баобабом.
– Пока.
По ступеням идея мальчика поднималась в молчании, упорно сама ставила одну ногу, потом подтягивала другую – и лишь сопела. Ну, скажет ведь – идея! Во – голова! В дверях, куда идея ткнулась радостно, оглянувшись на Катерину, на черных стриженных волосах которой, на скудоумной моей башке искрился растаявший снег, в дверях торчала записка.
– Стой, Макс, ключи у соседей.
Он не понял. Голубонькие твои глазки.
На звонок открыл Сидоркин.
– Зимоны задержатся, – сообщил он, выступая на площадку в своих полинялых трико, оттянутых на коленях, и футболке, когда-то, возможно, алой, а теперь неизвестно какого цвета.
– Вам помочь?
Жена Сидоркина отсутствовала. Где она была, почему и как в тот злополучный вечер оставила она супруга в одиночестве, Катерина не узнала. Сидоркин, едва они вместе, напрыгавшись по комнате, уложили и усыпили белокурую бестию, предложил выпить чашечку чая.
– Чашечку чая?
– Чая.
– Чашечку?
– Можно две.
Я и не предполагал, что она имеет ввиду что-то другое. Я и не предполагала, что он имеет в виду всамделишную чашечку чая.
– Две?
– Хоть сколько, – улыбнулся Сидоркин, и на его желто-серых щеках образовались два глубоких треугольника, – я тут сижу один, изучаю книгу о росте заработной платы в США. Американская мечта и американский идеал, умерев там, свалились на нас, как разлагающийся труп…
– Ну-у-у, – Катя надулась, – о политике я говорить не умею.
– И не надо – о политике! Поговорим… – Сидоркин поежился, точно от холода, – о поэзии.
Ну и мамонт, е-мое, ну кто сейчас говорит о поэзии, откуда он вообще в своем трико взялся?
О чем же с ней разговаривать, такая она современная молодая женщина?
– Вы, кажется, занимаетесь воспитанием юного германского отпрыска?
– Да, занимаюсь, только я очень глупая.
– Вы? – Потрясенно уточнил Сидоркин. – Вы? Ну, зачем так думать?!
– Я не думаю. Я не умею думать.
– Если человек считает себя умным, – Сидоркин начал разливать по чашкам чай, а Катерина оглядела комнату: все, как у всех: стенка, мягкая мебель, – то, несомненно, он – дурак! Мой шеф, к примеру, вы его не знаете и никогда не узнаете, институт у нас специфический, мы Запад изучаем, как бы сопоставляем и сравниваем, сейчас, разумеется, хвалим и восхищаемся, а раньше, когда я начинал работать, осуждали и отрицали, так вот, шеф наш такого о себе высокого мнения, и меня, признаюсь, его самоуверенность настораживает в том плане – а не глуп ли он, например, попал под влияние какого-то шарлатана, тот ходит босиком, массаж ему, видите ли, делает, попадет умный человек во власть жулика? А когда женщина, да еще такая молодая, такая интересная, говорит о себе критически, значит, без всяких даже сомнений – она скорее умна, чем глупа.
Катерину его комплимент так растрогал, что она подсела к нему, чтобы как-то попытаться его расшевелить.
Тут-то они и поняли, что оба совершенно друг друга не поняли.
Во, чудак, е-мое.
* * *
Инесса Суреновна пришла несколько раньше и не желала входить в приемную как дурочка, а посему, увидев табличку «Место для курения», она вытянула из сумочки длинную сигарету, и картинно закурила. Мимо тут же пробежала Николаева, из-под голубенькой джинсовой ее юбочки торчали беленькие кружавчики, а на блекло-завитой головке красовалось нечто вроде розового чепчика.
Сидоркин курившую не заметил. Падение нравов мучило его, как собственный пульпит. Неужели ее так воспитали, не переставал поражаться он, читала же она классическую литературу, о верности, о доблести, о славе, в конце концов, даже не классическую литературу, а газеты, полные грозной информации о страшной болезни века, ну, как так можно – войти в дом к незнакомому мужчине – и начать – нет! разложение политической идеи, словно трупный яд, пропитало все сферы нашей жизни, десять, нет двадцать! лет нужно на то, чтобы поднялись свежие силы. Сидоркин сутуло брел по коридору. Интересно, удастся ли шефу усидеть, размышлял он далее, рыльце-то у него тоже в пушку. Вот, я карьеры не сделал. Простой, честный человек. Подумаешь, начальник небольшой – разве руководитель сектора – начальник? Значит, всегда во все времена я, Сидоркин, не подстраивался, не лукавил, задниц не лизал, правящую партию не восславлял. А честность и принципиальность, товарищи, дороже золота!






