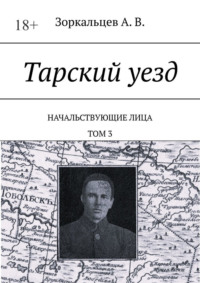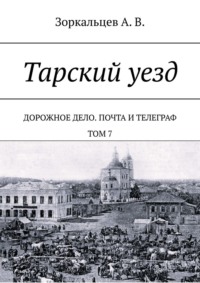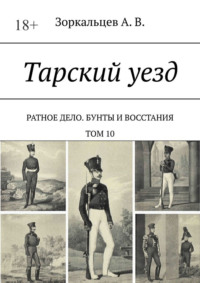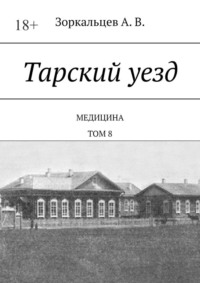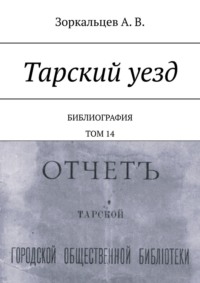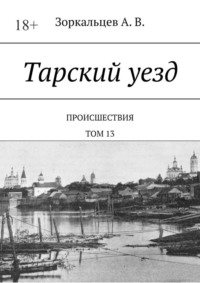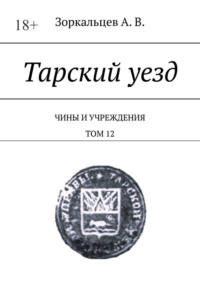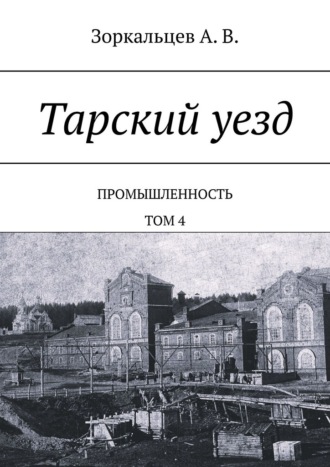
Полная версия
Тарский уезд. Промышленность. Том 4
В июне 1898 года в города Тару было привезено и осмотрено ветеринарным врачом: 6750 яловых кож из Каинского округа, 1500 телячьих кож из Тарского округа, 300 пудов шерсти из Тарского округа, 45 пудов конского волоса из Тарского округа, 20 пудов щетины из Тарского округа. Всё вывезено в город Тюмень.
«Ореховый промысел в Тарском округе.
Сбор кедровых орехов в тарских урманах, в урожайные годы, составляет значительный и прибыльный промысел для русских, проживающих в волостях, расположенных вблизи урмана (Слободчиковская, Тевризская и Аёвская), но особенно для большой части инородцев того края. В урожайное время (что бывает периодически) каждый здоровый инородец, имеющий свои, или могущий достать когти или кошки, как необходимые для успешного взлезания на кедр, – причём первые надеваются на ноги, а вторые – на руки, – отправляется в урман за сбором шишек и добыванием кедровых орехов. Промысел этот чрезвычайно затруднителен и опасен. Помимо того, что в урмане всякий орехопромышленник может наткнуться на дикого зверя, собственно промысел этот грозит часто неумелому, несообразительному промышленнику увечьем или смертью, чему он может подвергнуться, если, не смотря на когти или кошки, сорвётся с кедра: не всякий промышленник, не только русский, но даже и инородец (инородцы в этом промысле первенствуют пред русскими), вполне гарантирован от этого когтями или кошками: нам неоднократно приходилось слышать, что такой-то упал с кедра и расшибся, и если не до смерти, то получив значительные, на всю жизнь увечья, случается даже, что такой промышленник, сорвавшись с дерева и расшибшись в глухом урмане, вёрст за 25—35 от селения, за невозможностью немногим товарищам его доставить такового домой, – остаётся в урмане без всякой помощи, кроме незначительного количества запаса пищи, где он и кончает одиноко свою жизнь: тогда уже по неволе, товарищи его по промыслу и общественники доставляют его с трудом домой и хоронят. Труд, при этом, заключается в том, что по густоте и непроходимости урмана, переноска покойника требует не менее 8—12 человек, ибо, в таком случае, приходится очищать путь топорами. Здесь, только тот инородец может самостоятельно идти на этот промысел, который в состоянии заготовить себе запаса недели на две и более, как-то: чаю, сухарей, хлеба, масла, табаку-крупки с бумагой для курения и особую мягкую обувь для хождения по урману – бродни. Инородец, не могущий по бедности всё это заготовить, идёт в половинщики к состоятельному инородцу, или русскому, которые, снабдив его всем необходимым и даже дав немного денег, а большею частию, вместо денег, хлеба и чаю его семейству, – берут его в работники из половины, причём, из остающейся на долю такого работника половины, удерживается тоже часть за забранный запас по цене ореха, назначенной хозяином (товар ставится не дёшево), затем, остаток добытого ореха большею частью всегда по тойже цене продаётся тому-же хозяину. При этом бывает, что хороший промышленник, не бедный, идущий в половинщики, часто переманивается такими хозяевами и тогда, если первый назначил ему за пуд добытого ореха 80 копеек, то другой даёт 1 рубль, а третий – 1 рубль 20 копеек. Богатые и состоятельные хозяева, инородцы или русские, иногда составляют, таким образом, большие партии половинщиков, при помощи которых, а также скупке кедрового ореха мелкими партиями, они набирают его до 200—400 рудов и более, смотря по достатку, но при этом обыкновенно не берут у лесничего билета (по 10 копеек с пуда) на всё количество имеемого ореха, а всегда втрое, четверо менее, в остальном же количестве – дело, вероятно, не обходится без знакомства с лесным объездчиком. При отправке-же ореха в Ишимскую Николаевскую ярмарку и в Крещенскую в селе Абатское Ишимского округа, они, не зная ещё хорошо ему цену, отправляют орех не всегда весь, и, если отправляют более того, что значится в билете, то таковой стараются провести тихонько незаметно, закрыв такой орех другим товаром, например: рыбой, случается – попадаются и знакомятся с протоколом или берут дополнительный билет. Вот это-то билеты и протоколы и заставляют бедного инородца добытый им орех сбывать состоятельному инородцу или русскому, не смотря не всю ту выгоду в цене, которую он мог-бы получить за него и сам на ярмарке. Хозяева промышленники, набрав себе несколько таких работников-половинщиков, вместе со своими личными работниками, отправляют их, часть водою на лодках, частью пешком в урман, под надзором своим или одного из членов своего семейства, где они малыми партиями и начинают работать, т.е. взобравшись на кедр, сбивая с него шишки. По вечерам шишки сносятся в одно сборное место, где из них очищается орех, большая часть которого складывается в особые мешки, которые и у складываются до поздней осени, т.е. до наступления заморозков и санной дороги, когда он перевозится домой, в особо устроенные шалаши, между прочим, неприкосновенные для других партий (этот обычай, как закон, свято всеми исполняется, и нам никогда не приходилось видеть, или слышать о нарушителе этого обычая). Шалаши эти для сохранности от медведя, белки и лесных птиц ронжи, рябчиков – любителей и хищников кедровых орехов, – прочно защищаются и закрываются. Работа эта, т.е. промысел продолжается до окончания запаса; когда большая партия редко все возвращаются, и одна часть промышленников остаётся в урмане при остатках запаса, а другая отправляется домой за новым запасом, при чём отправляют её часть шишек и ореха, а малые партии и одиночки, возвращаясь за запасом, почти всегда забирают с собой и набранный орех, который; в виду бедности и домашней нужды, продают даже дорогой, не донеся всего домой (а то и пропьют) таких промышленников ждут и скупщики ореха и жена с детьми, сидящие без чаю и хлеба. Мелкие скупщики перепродают орех более крупным, выждав на то время и приблизительно узнав предполагаемую ему цену на предстоящих ярмарках г. Ишима и округа его; но, конечно, при этом случается, что те или другие ошибутся и кто-нибудь из них останется в накладе.
Сибирская торговая газета. №199. 12 сентября 1898 года. Тюмень (статья С.К.)».
В 1898 году изделия тарских кузнецов расходились по всему округу. Жители занимались хлебопашеством, рыболовством, скотоводством, сбором кедровых орехов. Из промыслов было распространено приготовление луба, лыка и мочалы из липовой коры, также выделка деревянной посуды.
В Тарском уезде убито скота: город Тара 3039, Слободчиковская волость 739, Каргалинская волость 3271, Викуловская волость 1329, Озёринская волость 664, Рыбинская волость 1747, Аёвская волость 1262, Тевризская волость 986, Бутаковская волость 1442, Крайчиковская волость 876, Такмыкская волость 2486, Карташёвская волость 1840, Бергамакская волость 2383, Мало-Красноярская волость 1720, Логиновская волость 1876, Седельниковская волость 726.
В 1899 году в уезде было развито железное производство: оковка телег, производство топоров, кос, сошников, серпов, ножей, приготовление экипажных принадлежностей. Купец II гильдии Никандр Семёнович Мелёхин ходатайствовал о разрешении работ на кожевенном заводе в городе Таре. Житель села Усть-Ишимского Ф. И. Огрызков, сообщал, что «с проведением железной дороги, жизнь населения улучшилась, так как открылись большие заработки по заготовлению леса для дороги». В южной части Тарского уезда крестьяне, кроме земледелия, почти ничем не занимались. Между тем обилие сырых материалов в виде леса, кожи, волоса, кости и прочего, по-видимому, как нельзя более способствовало развитию этого рода промышленности.
Ветеринарный врач уезда возбуждал вопрос о том, чтобы завести для старост книги, из которых бы они вырезали квитанции на все сырые продукты, вывозимые из деревень и на всякий продаваемый скот. Так же ветеринарный врач сообщал ветеринарному отделению, что многие кожевенные заводчики в Тарском уезде подавали прошения об открытии заводов в то время, когда последние уже функционировали, причём часто оказывалось, что был завод построен на месте, совершенно неподходящем.
В зиму 1899—1900 года в уезде заработки были следующие: Саргатская волость (село Усть-Ишим), Слободчиковская волость (село Слободчиково), Тавско-Утузская волость (юрты Кипо-Куларовские), Каргалинская волость (деревня Серебрянка) заготавливали по подрядам казны и частных лиц дрова и лес, заработками были довольны. В Аёвской волости (село Завьялово), Слободчиковская волость (посёлок Ионинский, выселок Космаковский, деревня Большая Тава) заготавливали лес и шпалы, заработком крестьяне остались мало довольны, потому что лес принимался с большим браком и много делали скидки в выселке Космаковском, едва пропитали себя и коней в посёлке Ионинском, так как подряды были взяты на весьма невыгодных для крестьян условиях, так что при расчёте только приходилось уплачивать рабочим в деревне Большая Тава. В посёлке Ионинском Слободчиковской волости большей частью сидели смолу и дёготь, от смолы и дёгтя приобретение небольшое, большая половина заработка уходила на расходы, оплату билета и прочее.
В Тарском уезде регулярно нанимали рабочих на прииски в Томской губернии и Восточной Сибири. К 1900 году наём рабочих сильно сократился за уменьшением спроса на рабочие руки.
28 июня 1902 года состоялось заседание Тобольского губернского комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности. На совещании было признано, что в Тарском уезде, по отзыву, крестьянского совещания, в более лесной его части существовал ряд промыслов по обработке и переработке дерева: выделка бочек, разной деревянной посуды, лыка и прочего, но промыслы эти были развиты очень слабо несмотря на изобилие леса. Главной причиной этого, по мнению крестьян, являлись слишком стеснительные требования лесной стражи в отношении предъявления лесорубных билетов на материал, из которого изготовлялись предметы. Купив, мастер несколько лесин, получал на это лесорубочный билет, когда же лес переработался, то для продажи предметов производства должен был опять брать билет. Указывали на случай, когда крестьяне получив билет на партию лыка в несколько возов, вывозили его на базар города Тары и повозно продавали его отдельным лицам. Купившие везли лыко себе в деревню, но так как они не могли предъявить на него лесорубочного билета, то лесная стража конфисковывала товар. По мнению совещания, необходимо было совершенно уничтожить требование лесорубочных билетов при продаже леса в переработанном виде, так как лесная стража достаточно имела способов предъявлять требование оплаты леса, пока он не переработан. Далее, так как в крестьянских наделах лесов было очень немного, то кустари вынуждены были покупать лес в казне. Лес же лесничие отпускали лишь сухостойный и валежник, часто не пригодный для промысла. Сырой лес можно было купить лишь делянками для сплошной вырубки, что для отдельных кустарей непосильно. Делянки могли бы быть покупаемы обществами, но продажа производилась при квартирах лесничих, и сельское население об этом не оповещалось. Необходимо было изменить порядок продажи делянок и уменьшить их размер.
В 1902 году во время уездного совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности в Тюмени, было высказано мнение Тюменской городской думы о строительстве железной дороги через город Тару Тюмень-Омск. По проекту дорога должна была пройти по местностям с плодородной почвой, густо заселённым и изобилующим кустарной промышленностью городами, в том числе и городом Тарой, но проекту не суждено было сбыться. Население Тары занималось торговлей, разными ремёслами, чёрными работами и частью хлебопашеством.
Зимой 1902 года в уезде заработки были следующие: заготовка и вывоз шпал, доставка различных материалов (дуб для кожевенных заводов) были сторонними заработками, но давали мало дохода вследствие дороговизны содержания и глубоких снегов при частых и сильных буранах. Кустарный промысел был не развит и исчерпывался изготовлением в небольшом количестве бондарной посуды, корыт, лопат, саней и т.п., которые сбывались тут же на месте в селе Седельниковском. В Логиновском обществе значительная часть домохозяев занимались по найму за другие общества отбыванием земско-обывательской повинности. На каждую пару лошадей приходилось в сутки 75—80 копеек. Здесь же крестьяне занимались доставкой для казны дров.
«Из Тарского уезда. Письмо V.
…Гульная скотина ещё, туда-сюда, бьётся, но молочные коровы, вследствие плохого питания, отощали и почти не дают молока. Маслодельни страдают от недостатка материала для обработки, цены же на сливочное-солёное-экспортное масло повысились более 11 рублей за пуд, также хорошее требование и на сладкое парижское масло, но по недостатку опытных мастеров в нашем уезде этот сорт масла вырабатывает, кажется, один завод господина Обухова в селе Муромцевском…
Купеческие и промышленные артели прекратили неводьбу по реке Иртышу, так как пески замёрзли, что отозвалось довольно чувствительным повышением цен на рыбные продукты. Копну сена в настоящее время продают по 20—25 копеек; запасы его невелики, так как на лугах не косили…
Сибирская торговая газета. №221. 4 октября 1903 года. Тюмень (статья Постоянного)».
Зимой 1903 года в уезде заработки были следующие: заготовка дров и шпал давала хороший заработок в Аялынской, Тевризской, Слободчиковской волостях. В Каргалинской волости с большим успехом занимались сбытом лесных изделий: тёса, плах, мочала, лыка, дровней, пошевней. В Логиновской волости хорошим был заработок в извозном промысле. В Слободчиковской, Седельниковской, Тавско-Утузской волостях занимались звероловством и охотой, но этот год был неудачный.
В 1904 году большая часть изделий урманных промышленников расходовалась среди местного населения. Значительный спрос существовал и на рынках в городе Таре, где местные гуртовщики скупали те или иные изделия для отправки их гужом далее на ярмарки в Курган и в местности по линии железной дороги. Особенно большой спрос имелся именно на деревянные изделия.
В 1909 году в уезде имелись конские заводы по разведению лошадей: завод потомственного дворянина Николая Ивановича Давыдовского близ села Муромцевского Бергамакской волости с 3 полукровными производителями и 2 матками, сорт скаковой; завод купца II гильдии Павла Георгиевича Обухова в селе Муромцевском Бергамакской волости, сорт рысистый.
Коневодство было развито слабо и исключительно подворное. Сорт лошадей обозные II разряда, редко годные под вьюки или верх ополченческих частей. Уезд занимал первое место в губернии по ореховому промыслу, от которого доход составлял 28520 рублей. Рыбным промыслом добывались: осётр, стерлядь, налим, щуки, нельма, ёрш, язь, окунь, карась, чебак. Побочными продуктами рыбного промысла была икра, рыбий жир. Звероловным промыслом добывались: соболь, куница, лисица, медведь обыкновенный бурый, росомаха, волк, горностай, белка, колонок, заяц, лось. Промысловой охотой на дикую птицу добывались: глухарь, тетерев, рябчик, куропатка.
На 1909 год насчитывалось 2 трактира, 71 винная лавка, 7 чайных лавок, 563 торговых лавок, 74 заводов, 48 ярмарок и торжков. Главными кустарными промыслами в уезде были: салотопенный (повсеместно наряду со скотоводством), маслобойный (повсеместно со скотоводством), кожевенный, верёвочный и мережный, мебельный, тележный, рогожно-мочальный.
В 1910 году от рыбной промышленности было дохода 31831 рубль, от промысла зверя 9508 рублей, от промысловой охоты на дикую птицу 10981 рубль. В уезде насчитывалось 850 кустарей, которые заработали 26992 рубля.
В декабре 1914 года при Петропавловской маслодельной артели Тарского уезда, была открыта артель по сбыту орехов на кооперативных началах. Сбыт орехов производился через Омскую контору «Союза Сибирских маслодельных артелей», где под товар выдавался аванс до 70%.
В 1915 году кустарные промыслы в уезде были развиты в малой степени. Последнее объяснялось исключительно трудностью сбыта, отсутствием образцов и стеснёнными условиями получения сырого материала. Так, производством берестяных бараков в Сычёвском обществе Пустынской волости, прекратилось исключительно в силу тяжёлых условий заготовки бересты. Смола и дёгтекурение, как одно из видных кустарных промыслов для Аялынской волости значительно сократилось, вследствие тяжёлых условий аренды лесных дач у казны. Население Бергамакской волости было занято выделыванием деревянной посуды и валяньем валенок у себя на дому из покупной шерсти. Что касается гончарного, слесарного, сапожного и портняжного промыслов, то они были развиты слабо и находились почти всецело в руках ссыльных. Охотой было занято мужское население целых шести волостей.
«О положении рогожнаго промысла в селе Муромском, Тарского уезда, Тобольской губернии.
Промысел этот с каждым годом падает, ибо крестьяне, по своей бедности, не могут покупать мочало на базарах сами, а богатые мужики-скупщики берут с них такую цену, что часто они совсем ничего не выручают за свой труд, принося лишь пользу мироедам, у которых находятся в полной зависимости. Но других промыслов крестьяне не знают и потому им поневоле приходится ткать рогожи. В начале осени все рогожники перебираются со своими семействами в свои закоптелыя зимницы, прилаживают столы и начинают свою тяжёлую работу. Зимницы стоят позади двора, часто без сеней. Это – большая изба, полная пыли, куда едва проникает свет чрез небольшия, заложенныя соломой окна; тут же стоит разная домашняя утварь и нередко находятся свиньи. Посреди избы стоит стан. Во время работы изба наполняется страшною пылью, работают весь день, часто и ночь, при свете дымной лучины.
Тут же едят и спят; спят немного в сумерки и в 10 часов вечера встают уже на ночную работу до разсвета; на разсвете завтракают, отдохают с час и снова работают; обедают и опять за работу. Жар, духота, дым от лучины, смрад и пыль от мочала делают воздух невыносимым. В такой атмосфере работают и дети с 8-летняго возраста и потому все они слабы, хилы и в огромном числе мрут от горячки, скарлатины и т. п. болезней. Рано мрут и родители их, оставляя им в наследство ту же зимницу. Рогожники едва пропитываются и оплачивают подати. Промысел этот падает ещё и потому, что ныне всё более и более разводится отхожих рогожников, которые часто заколачивают свои дома совсем, перестают обрабатывать землю, которая так и стоит пустою, и всею семьёю едут в Тюмень и там ткут рогожи на купцов, в их заведениях. На базарах, голодный рогожник продаёт свой товар за бесценок. Скупщики, богатые крестьяне, кулаки наживают громадный процент как скупкою и перепродажею рогож, так и торговлею мочалами, за которое берут с рогожников двойную цену.
Не лучше положение пимокатов села Артынска: встают они в полночь и работают до 6 часов утра, завтракают, отдохают с час и снова принимаются за дело до 2-х часов пополудни, в это время обедают и затем снова работают до 9 часов вечера, наконец, ложатся спать до полуночи, часа на три. Недельный заработок простирается от 4 до 5 рублей. На этот заработок покупается хлеб на неделю и новый материал.
В с. Артыне считается до 150 домов. Живёт в них народ угрюмый, недовольный, запуганный. Это всё лица, сосланныя по общественным приговорам. Им надо выселяться, но они не выселяются и упрямо держатся в своих старых гнёздах, ведя отчаянную, но вполне безнадёжную борьбу с тарскими купцами, ссудившими их деньгами за 20% годовых, с властями, взыскивающими с них разныя повинности и неизбежный процентный сбор; угнетают их и купеческие маслодельные заводы. Земля родит плохо, и как ей хорошо родить, когда примитивное трёхпольное хозяйство не даёт ничего, а берёт из почвы с году на год всё больше и больше. Чтобы получить большой урожай, надо хорошо обрабатывать землю, надо затратить капитал. А где его взять при всеобщей бедности.
– Денег нет! – точно стон идёт по всему краю, обезсиливают руки в работе и туманит умы.
Народная газета. №47. 12 декабря 1915 год. Курган (статья Петра Беспокойного)».
В 1916 году Тарский уезд вошёл в Союз Западно-Сибирских кооперативов, где находились промышленные предприятия: обувная фабрика, мыловаренный завод, типовые общественные заводы, общей стоимостью 223000 рублей.
«Тарский край, Тобольской губернии.
Тарский край – вот «край, где всё обильем дышит», в смысле охотничьих и рыболовных угодий.
Благодаря обилию дичи и обращение с ней здесь слишком безцеремонное.
Самым распространённым способом добычи уток является ловля петлями, устройство которых следующее: берут бичёвку длиною аршина полтора, вплетают в неё несколько вылосяных петель, с таким разсчётом, чтобы оне, будучи настороженными, касались одна другой, так что в общем получается безперерывная цепь петель.
Приготовив десяток-другой таких «ловушек», промышленчики ставят их в тальниках вокруг озера или вообще в местах, где водятся утки, в прогалинах естественных или специально для этого приготовленных (делается это, понятно, в весенний разлив, когда утки плавают везде и всюду).
Для того, чтобы петли держались на воде на определённом уровне, их привязывают к колышкам, вбитым в поплавок из коры берёзы, а затем всё это приспособление укрепляется к растущим по краям прогалины талинам: если вода прибудет – поплавки с петлями поднимаются, если убудет – опускаются и, следовательно, петли всегда находятся на такой высоте, что утка не может проплыть ни выше, ни ниже петли, а потому утиному населению, уединяющемуся в укромныя места, в поисках корма, смерть верная.
Другой способ ловли уток – это ловля перевесами (сетями). Перевесы ставятся на особых просечках шнура перевес укрепляется на столбах несколько ниже высоты леса (и во всяком случае не выше) во всю ширину просеки.
Для того, чтобы добыть уток, промышленнику приходится бодрствовать ночь; завидев уток, летящих про просеке к преревесу, промышленник настораживается, момент – и он опускает свои тенёты на табун уток, утки запутываются в сеть и вместе с нею падают на землю.
Этой ловушкой добыча уток производится десятками, но зато устройство такого приспособления доступно только промышленникам зажиточным (нужно расчистить просеку, установить столбы, справить сеть).
Пойманных уток привозят в Тару и продают по 20—25 копеек за штуку.
Народная газета. №34. 24 сентября 1916 год. Курган (статья Петра Беспокойного)».
«Из Тарскаго уезда, Тобольской губернии.
Весь Тарский уезд, в особенности его северная часть, изобилует лесами, почти нетронутыми рукой человека. Здесь в глухих и дремучих лесах до настоящаго времени водится много разнаго зверя и птицы, как-то: белок, медведей сохатых, лисиц, рябчиков, тетеревов, куропаток и прочих. Поэтому охота на зверей и птиц является до последняго времени одним из средств к существованию местного населения. В особенности это приходится сказать про некоторыя волости северо-восточной части уезда, население которых издавна живёт, главным образом охотой.
С наступлением осени и установлением зимняго пути артели охотников идут в леса на промысел, где и проводят целыя недели, нередко месяцы, охотясь на белку, соболя, рябчика и прочую лесную дичь и изредка возвращаясь домой для пополнения запасов провизий и сбыта продуктов охоты.
Наступивший осенний и зимний охотничий сезон обещал бы быть очень хорошим по результатам. Ещё летом в лесах по всему Тарскому уезду замечалось редкое обилие дичи: рябчиков, тетеревов, глухарей и куропаток. Это обилие дичи объясняется, тем, что с уходом на войну значительной части мастнаго населения, сильно уменьшилось число охотников и лесная дичь за прошлыя два лета не была выбита и сохранилась. Хорошая ожидается охота также и на белку, так как ныне в пределах Тарскаго уезда был богатый урожай кедровых орехов, этого любимаго лакомства белки.
Но не смотря на обилие дичи и белок, охотники Тарскаго уезда ныне в большом огорчении и не видят себе никаких выгод от этого обилия. Дело в том, что во всём Тарском уезде, в особенности в трёх его районах, где сильно развит охотничий промысел, ощущается огромный недостаток в порохе и дроби, необходимый для охоты, и цены на них сильно возросли. Так, например, фунт пороха стоит 15—16 рублей, дроби 2 рубля, причём и за эту непомерно высокую цену очень трудно достать то и другое. Всё это ставит охотников-промышленников в безвыходное положение и лишает их возможности воспользоваться тем обилием дичи и белок, какое ныне наблюдается в Тарском уезде. Неблагоприятныя условия для охоты не замедлили уже обнаружиться. В то время, как в прежние годы в сентябре и октябре месяцах на местных рынках появились в большем количестве рябчики, куропатки, тетерева и другая лесная дичь, ныне этой дичи на рынках не видно до сих пор и если где и встречается в незначительном количестве, то цены на неё стоят очень высокия: так, например, пара рябчиков стоит теперь 1 рубль 90 копеек, тетерев 2 рубля 50 копеек, глухарь от 3 до 4 рублей.