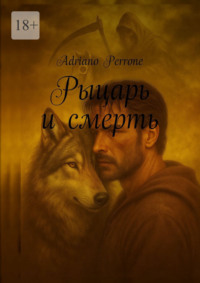Полная версия
Крепкий как стебелёк травы
Не хочется задавать себе вопросы.
Джанфранко ведёт меня по белому коридору…
Справа и слева много комнат.
Добираемся до большого зала.
В этом зале есть мужчины и женщины, думаю, немного похожие на меня.
Как только меня видят, аплодируют… «Добро пожаловать!» – кричат хором.
Должно быть, это своего рода процедура для всех новичков.
Пара из них в инвалидных колясках, как я; другие могут ходить, возможно, с тростью.
У других должны быть другие виды проблем…
Есть один, который не перестаёт дрожать.
Не могу повернуть шею, но всё же удаётся осмотреться.
Куда я попал?
Это моя судьба?
Проведу здесь остаток своей жизни?
Помню, как думал о сумасшедшем доме…
Возможно, я сумасшедший, и это резкое пробуждение в реальности.
Глава III
Сегодня седьмой день.
Я довольно быстро выучил имена всех моих «товарищей».
Товарищи… если так их можно назвать.
Есть Маттиа, самый старый, помимо того что находится здесь дольше всех.
Лет семьдесят… все говорят, что проведёт свои последние дни здесь.
Мало говорит и мало двигается.
Живёт воспоминаниями…
Часто говорит о какой-то роковой «внучке»… которую, однако, никто никогда не видел.
Иногда садится за стол с колодой карт; злится, если кто-то приближается.
Он раскладывает пасьянсы.
Проблема в том, что остаётся с картами в руках, не раскладывая их.
Не двигаясь.
Остаётся там, уставившись в пустоту.
Кажется, что ждёт кого-то или чьего-то сигнала.
Иногда часами смотрит в пустоту; неподвижный, как тростинка в озере.
Возможно, ждёт эту внучку, чтобы поиграть.
Внучка не приходит… а он не двигается, пока не зазвонит колокольчик.
Колокольчик служит для того, чтобы предупредить всех, что пора направляться в столовую.
Затем есть Марчеллино, парень двадцати пяти лет.
Самый молодой.
У него постоянная дрожь, но это не Паркинсон.
Его изучали многие специалисты, говорят.
Никто так ничего и не понял.
Его дрожь действительно впечатляющая.
Иногда сильнее, иногда слабее… но в любом случае он не способен заботиться о себе.
Когда нервничает, кажется, не очень соображает… но в остальном похож на умного парня.
Есть Рубен, маленький ростом.
Он тоже в инвалидной коляске, но хорошо говорит и двигает руками и туловищем.
Говорят, что скоро уйдёт.
Затем «Андреа первый»: толстяк, который думает, что он единственный, у кого есть проблемы в этом мире.
Немного как я.
Он хорошо двигается, говорит и умеет делать понемногу всё.
Должен принимать, однако, около тридцати таблеток в день… не знаю точно для чего.
Никто толком не знает, по какой причине он всё ещё здесь.
В конце концов, он самостоятелен.
«Андреа второй», ничего общего с первым.
Застенчивый, лет сорока, полулысый.
Очень слабый; устаёт от всего.
Есть Джованна… невыносимая болтунья.
Ей около тридцати, но выглядит как минимум на десять лет старше.
Её прозвали «газетой Кэргивера».
Если хочешь что-то узнать о ком-то, даже о его личной жизни, даже сколько у него волос на голове или сколько раз в день он ходит в туалет… обращайся к ней.
Очевидно, все знают, что когда она чего-то не знает, приправляет всё небольшой фантазией.
Я узнал, что за день до моего прибытия обо мне уже говорили.
Джованна сказала всем, что должен приехать пострадавший пилот джамбо…
Практически я пилот джамбо.
У меня две жены, и я полон денег… где-то там.
Было бы даже приятно ей поверить… если бы не дом, который я видел в день выписки из больницы.
Какой там пилот джамбо.
Возможно, я был пилотом мусорного бака под домом.
И наконец, Росселла и Марианна, которые являются, соответственно, негативом друг друга.
У обеих проблемы с психикой, и, несмотря на то что они закадычные подруги, совершенно не ладят.
У каждого есть что-то особенное.
Иногда это похоже на самоуправляемый зоопарк или цирк анархистов.
И затем, очевидно, есть я.
Я, кем бы я ни был.
В тишине, один.
За последним из столиков моя склонённая голова, которая не даёт и не требует.
Созерцаю всё, но не говорю.
Не даю ничего никому, потому что мне нечего дать.
Иногда хотел бы что-то сделать… что-то сказать.
Но только усилием воли моё лицо не двигается; ничего не шевелится.
И потом, даже сама мысль о том, чтобы что-то сделать, заставляет меня чувствовать себя голым и не в своей тарелке.
Голым в ветреной буре.
Иногда хотел бы…
Лучше не надо.
Лучше запереть моё сердце, или то, что от него осталось, в клетку.
В серости, в которой я нахожусь, в тени, которая исходит изнутри меня, очень редко слышен какой-то шум.
И я не слушаю шумы других.
Кто-то за эти дни приближался; приближался и что-то спрашивал у меня.
Не раз. Не один.
«Что с тобой»… «что происходит…»
Задавали мне вопрос, но не ожидая настоящего ответа.
Все знают, что я не могу говорить.
Задавали мне вопрос в тщетной попытке интерпретировать мои взгляды.
Тот, кто приближается и спрашивает, обычно смотрит мне в глаза, ожидая знака.
Чего-то.
Чего-то, что можно было бы интерпретировать как чуть больше, чем ничто.
Но у меня не только физический паралич.
Это что-то более глубокое.
Исходит из мотивов.
Тот, кто приближается и спрашивает, не получает, потому что у меня нет желания давать.
Я заперт в капкане и не хочу жить.
Не так.
Это не жизнь.
И когда кто-то приближается со своей улыбочкой… я затягиваю этот капкан ещё на пол-оборота.
Стараюсь даже не шуметь своим дыханием.
Не хотел бы, чтобы его ошибочно приняли за попытку общения.
Я бесчувственная и немая статуя, и таким хочу остаться.
Я бесчувственная и немая статуя, и хочу наблюдать за этим спектаклем.
Наблюдать за людьми, за моим маленьким ежедневным движением; движением людей, которые не касаются реально моего стола, потому что он находится в самом отдалённом углу их мыслей или их причин.
Даже когда кто-то приближается, он на самом деле очень далёк от меня.
Я неподвижен… но в отличие от Маттиа, не думаю, что кого-то жду.
Или, возможно, да…
Не знаю, правда.
Я бесчувственная и немая статуя, и не уверен в том, что чувствую.
Возможно, жду чего-то, кого-то… возможно, никого.
Возможно, маленькая часть меня ещё надеется, возможно, больше не надеется.
Не знаю.
Рубашка на мне кажется тяжёлой.
Сдавливает грудь.
Это рубашка, но кажется тяжёлым пальто.
Но, возможно, завтра…
Что я говорю?
Возможно, завтра будет по-другому?
Тьфу…
Только причиняю себе боль, думая об этих вещах.
Причиняю себе боль… но не могу не делать этого.
Да, часть меня ещё надеется.
Возможно, потому что нельзя жить без надежды.
Возможно, потому что не хочу думать о том дне, когда никому больше нечего будет у меня спрашивать.
Возможно, кто-то действительно приблизится и задаст мне вопрос, на который я смогу ответить.
Голосом или глазами, не знаю.
Начну с этого, чтобы посмотреть на мир, а затем, наконец, заглянуть внутрь себя.
Волнуюсь…
Моя мысль заставляет сердце биться сильнее.
Моя собственная мысль пугает меня.
Если завтра когда-нибудь будет по-другому… я мог бы ослабить этот капкан.
Ослабил бы его на пол-оборота, чтобы открыть грудь в дыхании…
Но вижу этот день далёким.
Я узнал, что Джанкарло ушёл этим утром.
Я это предвидел.
Он продержался со мной неделю.
Я слышал шум машины…
Не знаю, был ли это именно он, но он ушёл.
Это моя вина.
Я всегда плохо с ним обращался, хоть и не говорил ни слова, и он это понял.
Он действительно старался.
Признаю, что он прикладывал усилия, но я делал всё, чтобы его уничтожить.
Если подумать… я сам себе противен.
Но это лишь отвращение, которое добавляется к другому отвращению.
Для некоторых вести себя хорошо труднее, чем для других.
Для некоторых слишком легко судить…
Неважно.
Я был один раньше и один сейчас.
Ничего не изменилось.
Я узнал, что придёт женщина, чтобы его заменить.
Зовут «Рафаэлла».
Уже представляю…
Будет помесью мисс Роттенмайер и Игоря из «Молодого Франкенштейна».
Эта мысль заставляет меня улыбнуться на мгновение.
Внутри.
Вероятно, у неё будут плечи игрока в регби, накачанного стероидами, и деликатность дорожного катка.
Неважно, будет весело.
Ей не придётся на меня злиться или повышать голос…
Будет весело смотреть на её принуждённые улыбочки и манерность.
Смотрю в окно…
Видна пышная зелень, ухоженная.
Оно только приоткрыто.
Время от времени входит немного воздуха и, кажется, немного оживляет всех.
В мгновение… изумление.
Птичка, маленькая, села на подоконник.
Красивая…
Только я и Марчеллино её заметили…
– Ооо… посмотрите туда! – говорит он, указывая на окно.
В мгновение все поворачиваются и приближаются…
Птичка улетает.
Это было мгновением.
Все её напугали.
Кто знает, что она пришла делать в дом Кэргивер.
Это было мгновением… но показалось волшебством.
На мгновение все сдвинулись; сделали что-то вместе.
Как будто она сделала это нарочно.
Пришла сказать… «Эй! Просыпайтесь!»
Все показались более живыми.
– Что это была за птица? – спрашивает Джованна.
– Возможно… возможно, тукан… – говорит Рубен.
– Да нет же! – говорит Марчеллино. – Она была слишком маленькой! Туканы большие!
– А откуда ты знаешь? Ты когда-нибудь видел тукана?
– Ну… нет. Я никогда не видел тукана вживую, но видел много фотографий.
– А фотография, которую ты видел, была в натуральную величину? Видишь, что не знаешь?
– Эй… но… у туканов большой клюв! Огромный! – продолжает он, пытаясь быть правым. – У этой был маленький клюв!
– Может быть, у того, которого видел ты, был огромный клюв!
Спор не остановился бы вовсе, если бы не…
– Это был соловей! – сказал Маттиа, удивив всех.
Он тоже подошёл к окну, уронив карты на пол.
Такого никогда не случалось раньше.
Все посмотрели на карты, разбросанные по полу.
Никто не заметил сразу, но он тоже встал, чтобы посмотреть на ту птичку.
Молча, позади всех, приблизился.
– Маттиа… твои карты… – сказал Марчеллино.
– Это был соловей! – продолжал говорить всё более убеждённо…
Если бы ему не дали правоту, он бы рассердился.
– Хорошо, это был соловей, – говорит Марчеллино… и все остальные за ним…
– Соловей!, – Красивые соловьи, – Ах… соловей!..
Остаюсь при мнении, которое у меня сложилось в первый раз, когда услышал о лечебном доме Кэргивер.
Я попал в сумасшедший дом.
И нахожусь в нём уже неделю.
Может быть, завтра увидят мышонка и будут спорить, видели ли морскую свинку или хомячка.
Мои дни в Кэргивере действительно станут интересными.
Если бы я не был парализован, сейчас пошёл бы в свою комнату и заперся бы там на три недели.
Иногда меня охватывают негативные мысли, и я не могу этого избежать.
Хотел бы убежать, уйти прочь.
Внезапно что-то меня отвлекает.
Это не шум и не изображение.
Это что-то позади меня.
Чувствую, как за спиной открывается дверь, и внезапно меня охватывает нежный и приятный аромат…
Чудесный аромат, который что-то мне напоминает.
Цикламены!
Аромат цикламена вокруг…
Не знаю, кто его принёс… но слышу голоса позади себя.
– Это он? – говорит молодой голос.
– Да, он. Уверен, что справится с работой.
Этот последний голос я узнаю: это директор комплекса.
Почему он здесь?
Он никогда не показывается в центральном зале.
Слышу шаги… стук каблуков.
Рядом со мной появляется девушка лет двадцати пяти, без халата, с длинными каштановыми вьющимися волосами.
Она мне улыбается.
Из всех улыбается только мне.
Момент кажется снятым в замедленной съёмке.
Хотел бы ответить улыбкой, но не могу.
Она очень красива, мои глаза ещё хорошо видят.
Это она пахнет цикламеном.
Никто её не замечает… по крайней мере, не особенно.
Кажется классическим визитом родственника.
– Добрый день, синьор Галего! – говорит она своим приятным голосом. – Меня зовут Рафаэлла. Я ваша временная опекунша.
Не могу ничего, кроме как смотреть на неё и наполняться ею.
Ею и её ароматом.
Какая там мисс Роттенмайер… это Белоснежка.
Что-то… не знаю…
Маленький свет, бесконечно малый, что-то вошло в меня в тот момент.
Это было лишь мгновение…
Маленькая вещь.
Маленькая доброта, внимание, пусть и минимальное.
Деликатность детали, не знаю.
Моя чернота на мгновение стала серой.
Немного посветлела.
Все поворачиваются, как будто соловей внезапно появился с другой стороны комнаты.
Смотрят на неё.
Теперь замечают.
Марчеллино смотрит на неё и говорит…
– Понял, Роберто!
Она поворачивается ко всем и вежливо здоровается.
Её манеры свежи и приятны.
– Да уж, Робертино не дурак… – говорит Джованна. – Я говорила с первого дня… у того хитрый взгляд… хитрый взгляд у того, говорю тебе.
Глава IV
– Думаю, нам стоит перейти на «ты», не считаешь? – говорит мне моя новая опекунша своим милым личиком.
Я не могу ответить ни словами, ни взглядом, но она чувствует, что мне это подходит.
Она заботится обо мне уже неделю.
Конечно, не одна… ей помогают ещё двое в более интимных делах, скажем так.
Она занимается моей… как это называется?
Реабилитацией.
Не очень понимаю, что означает это слово.
Не знаю, что оно означает в моём случае.
В любом случае, она вошла в мою комнату, комнату в Кэргивере, и привела всё в порядок.
Взяла на себя личную ответственность и заботу о том, чтобы её убрать, хотя не входит в персонал уборщиков.
Разобрала багаж, лежавший там уже более двух недель, и начала аккуратно расставлять все мои вещи.
Оставляет только фотографии.
Каким-то образом поняла, что они меня пугают, и не вынула их из багажа.
Но рано или поздно сделает это… знаю.
Волнуюсь при этой мысли.
Надеюсь, это случится как можно позже.
Боюсь вспомнить.
Боюсь, что фотографии откроют мне что-то ужасное.
Боюсь обнаружить, что существует что-то хуже моей нынешней ситуации.
В любом случае, Рафаэлла включает маленькое радио и ставит немного музыки.
Комната наполняется ритмичной музыкой.
– Поставила бы на полную громкость, – говорит, – но нас выгонят!
Смотрит на меня и смеётся…
– Придётся довольствоваться.
Затем берёт мою правую руку и начинает её двигать.
Это часть упражнения.
Впервые мы делаем упражнения в моей комнате, и впервые делаем это под музыку.
Это не входит в обязанности опекунши, но, очевидно, она творческий человек.
Очевидно, она хороша в своей работе и знает, что делать.
Я узнал, что у неё есть определённая специализация.
Специализация в чём-то.
Она не такая, как другие «опекуны», и это заметно хотя бы по тому, что она единственная, кто не носит халат.
Я единственный, у кого есть она.
Она не занимается никем другим здесь.
Не знаю почему.
В любом случае она там, уже неделю, двигает мне руки и кисти и говорит…
– Давай, Роберто, сделай усилие.
Она положила мне в правую руку два резиновых мячика и помогает сжимать…
Не знаю, удаётся ли мне создать хотя бы лёгкое давление, но впервые хочу суметь что-то сделать.
Хотя бы движение, даже маленькое.
Чувствую себя подстёгнутым её усердием к тому, чтобы и самому стараться.
Внезапно из радио слышится шум моря…
Волна, ещё волны.
Всё останавливается во мне.
Как будто этот звук входит в меня… как будто есть маленькое море во мне, которое узнало зов.
Что-то далёкое и близкое.
Не знаю почему… но это что-то, что волнует мои чувства.
Море течёт во мне.
Не могу сопротивляться… хочется плакать.
Чувствую себя глупо.
Плачу… и ничего не могу с этим поделать.
Рафаэлла прерывает упражнение и смотрит на меня.
Видит, как мои слёзы стекают по лицу…
– Ох, Роберто! – говорит мне. – Мужайся! Мужайся! Всё наладится, увидишь! Всё наладится.
И вытирает мне слёзы бумажной салфеткой.
Милейшая.
Не знаю, поняла ли она, что именно этот звук произвёл на меня такой эффект, но она искренне заботлива.
Стыжусь плакать перед ней, но не имею власти над своими ощущениями, так же как не имею власти над своим телом.
Звука моря больше нет, и я могу перестать плакать.
Рафаэлла на мгновение смотрит на радио… потом смотрит на меня.
Вытерев мне слёзы, треплет меня по щеке.
– Не унывай, Роберто, – говорит мне самым нежным голосом, который я когда-либо слышал. – Я почувствовала немного силы. Это было только мгновение, но определённо лучше, чем на прошлой неделе.
Она говорит о моей руке.
Не знаю, правда ли это.
Не думаю, что двигался.
Не знаю, правда ли это, но её слова заставляют меня чувствовать себя хорошо и побуждают стараться немного больше в следующий раз.
Немного больше в день, каждый день.
Физиотерапевты регулярно массируют меня, поднимают с инвалидной коляски и дезинфицируют пролежни, которые начинают образовываться на спине.
Не выношу их, когда между массажами хотят поговорить.
Только Рафаэллу выношу.
Более того, мне приятно, когда она мне что-то говорит.
Хотел бы, чтобы говорила со мной часами.
Её голос мне так нравится, что не стал бы слушать ничего другого.
Даже когда она не говорит со мной, слушаю её голос.
Когда её нет, представляю, что она скажет мне в следующий раз.
– Ты молодец, – говорит, поправляя мне волосы пальцами. – Продолжай так и завтра, и в последующие дни, и увидишь, что постепенно результаты придут. Не унывай, понял? Не унывай.
Последняя улыбка, выключает радио и уходит.
Её слова дают мне большую силу в этот момент, но чёрная волна внутри меня.
Она всегда в засаде и ждёт только щели, трещины, чтобы проникнуть.
Ждёт долю секунды, чтобы покрыть меня полностью.
Каждый раз, когда она уходит, чувствую, как волна приближается.
Медленно тону в своей глупости и боли каждый раз.
Хотел бы умереть в определённые моменты.
Более того… хотел бы умереть большую часть времени.
Она не может понять, как я себя чувствую.
Хотел бы, чтобы осталась со мной и говорила.
Хотел бы, чтобы оставалась со мной весь день, хотя эта мысль заставляет меня чувствовать себя ребёнком.
Она делает со мной упражнения целых два часа в день и остаётся со мной или поблизости восемь часов.
Восемь часов каждый день.
Хотел бы, чтобы оставалась со мной… хотел бы, чтобы у неё не было своей жизни.
Эгоист и глуп, знаю.
Но шестнадцать часов, которых не хватает, чтобы снова её увидеть, – это вечность.
Иногда думаю, что хорошо, что я не могу двигать руками.
В таком состоянии духа мог бы совершить безумство.
Безумство над собой.
Рафаэлла не может понять горечь, которую ношу внутри, и, возможно, это к лучшему.
Не вынес бы мысли о том, чтобы испортить её красивую улыбку.
Хотел бы избавиться от своей боли, не вываливая её на кого-то.
Не хотел бы обращаться с ней так, как поступил с Джанкарло.
Она самое прекрасное, что случилось со мной с тех пор, как я «проснулся», и был бы действительно глуп, если бы всё испортил.
Приходят ещё два опекуна.
Теперь это обычная практика.
У меня есть расписание для туалета, еды и сна.
Привык.
Никому не нужно пытаться понять мои взгляды, потому что привык ходить в туалет в установленное время.
Четыре дня не причиняю неловкости и думаю, что продолжу так.
Хотел бы быть куколкой.
Хотел бы верить, что всё это, в конце концов, имело цель.
Хотел бы обнаружить, что стал чем-то другим и лучшим.
Хотел бы освободиться от своей оболочки и улететь от себя.
Хотел бы улететь от всего и всех.
Но нет… я здесь.
Нравится мне это или нет, я здесь.
Неподвижный и немой.
Замкнутый в себе.
Смешной.
Представляю, что другие находят меня смешным или хуже…
Что смотрят на меня с грустным личиком, как бы говоря…
– Бедняжка… как это случилось?
Как люблю тишину в таких случаях.
Никого не выношу.
Злой, потому что так себя чувствую.
Ненавижу всех и, прежде всего, себя.
Но я здесь.
Неподвижный и немой.
Замкнутый в себе, смотрю на свет и тени, которые касаются моего лица.
Глава V
Свежий воздух ласкает моё лицо.
Чувствую аромат в воздухе…
Небо яркое и тёплое.
Всё кажется таким знакомым.
Оглядываюсь и вижу на некотором расстоянии море.
Кто-то меня зовёт.
Бегу в направлении голоса и к морю.
Чувствую себя лёгким, счастливым.
Там внизу кто-то меня ждёт.
Знаю, что делаю.
Бегу к кому-то, кто меня знает.
В мгновение оказываюсь на берегу моря, следуя по следам.
Женские следы.
Следую за ними.
Море что-то шепчет.
Следы стираются, медленно, волнами моря.
Должен поторопиться.
Должен догнать ту, которая оставляет эти следы, прежде чем море решит стереть раз и навсегда её знаки.
Должен поторопиться, пока не поздно.
Ускоряю шаг.
Следы ещё есть, но не знаю, надолго ли.
Морской бриз бьёт мне волосы в глаза.
Бегу.
Хочу её догнать.
Передо мной, метрах в двадцати, женщина ждёт меня.
Хрупкая, с длинными чёрными волосами.
Стоит спиной, но поворачивается ко мне.
Улыбается.
Она прекрасна… знаю, что прекрасна… но не могу видеть её лицо.
Бегу к ней.
Она мне улыбается… но не могу видеть её рот.
Знаю её… но не могу понять, кто она.
Приближаюсь.
Возможно, вблизи увижу лучше и пойму.
Чувствую, как кто-то касается моей ноги.
Останавливаюсь.
Оборачиваюсь.
Позади меня ребёнок с чёрными короткими волосами.
Ему лет восемь или девять.
Взял кусок стекла, отполированного морем.
Похож на светящийся и прозрачный камень.
Он тоже улыбается… хотя не вижу его улыбки.
У него белое пятно вместо лица.
Протягивает мне «камень» и что-то говорит.
Не знаю что.
Я смотрю на камень и говорю ему что-то.
Тем временем шум моря становится более настойчивым, как бы подчёркивая что-то.
Море хочет что-то сообщить, но в данный момент не понимаю.
Женщина приближается ко мне и к ребёнку.
Она тоже что-то говорит…
Кладёт мне руку на плечо, потом всё исчезает.
Открываю глаза.
Внезапно оказываюсь в кровати, глубокой ночью.
Есть человек, сидящий в кресле, который что-то читает.
Опекун.
Он очень близко к моей кровати.
Он там, чтобы не дать мне что-то случиться.
Может быть, задохнуться ночью.
Он там, чтобы не дать мне покончить с собой.
Это первый раз, когда мне снится что-то.
Что-то красивое, я имею в виду.
Не помню, чтобы видел хоть один приятный сон с тех пор, как «проснулся».
Прекрасен был шум моря и его аромат.
Прекрасно было знать, что кто-то меня ждал.
Кто была та женщина?
Это была не Рафаэлла, в этом уверен.
У Рафаэллы каштановые вьющиеся волосы; у женщины из сна были чёрные прямые волосы.
Не она… тогда кто?
А кто был ребёнок?
Действительно глуп.
Пытаюсь найти объяснение сну, прекрасно зная, что это был только сон.
Возможно, музыка вчера, шум моря, просто заставили меня пожелать что-то прекрасное.
Это было прекрасно… но пробуждение было ужасным.
Я здесь, в своей кровати, в лечебном доме.
Я здесь, парализованный, без жизни, без ничего.
Было бы прекрасно обнаружить, что, в конце концов, сон – это это.
Сейчас я сплю.
Было бы прекрасно проснуться однажды утром с домом, жизнью и семьёй и иметь возможность сказать своей спутнице…
– Уф… мне приснился ужасный сон!
Но нет.
Вот я здесь.
Насмешливая судьба.
Заброшенный против своей воли в реальность, которая хуже самого худшего кошмара.
Я здесь, неподвижный и немой, среди людей, которых не знаю, и в жизни, которую не узнаю.
Жизнь… если так мы хотим её называть.
Своего рода колония, полная правил и правилец.
Всё в установленное время.
Снова у меня катится слеза.
Кто я?
Почему я здесь?