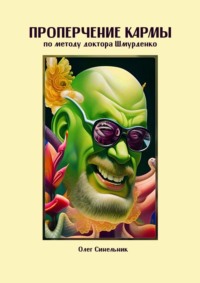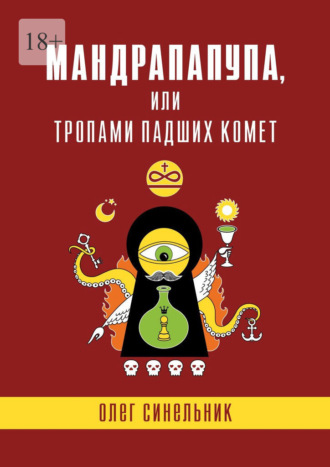
Полная версия
Мандрапапупа, или Тропами падших комет. Криптоапокриф северо-украинской традиции Непонятного

Мандрапапупа, или Тропами падших комет
Криптоапокриф северо-украинской традиции Непонятного
Олег Синельник
Хорошо под небесами,
Словно в лодке с парусами,
Вместе с верными друзьями
Плыть, куда глаза глядят.
По дороге с облаками,
По дороге с облаками
Очень нравится, когда мы
Возвращаемся назад.
Н. Олев
© Олег Синельник, 2025
ISBN 978-5-0067-7399-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
PRO LOGUER
Тайнопойцы осени
Торжественно взошло Черниговсолнце,в аллеях освещая алкожрач.То тайнопойцы осени на лонцецедируют божественный первач,красивы и вольны, как божьи птахи,вкушая неба эйдосы сполна,провозглашая маты, а не шахи,вещая так, что корчится страна.По праву их когорте поручилипо горло окунуться в рай земнойте боги, что навеки оглушилиподлунный мир звенящей тишиной.Змеятся речи тёмные изустнопо лезвий языкам, как «Amaretto»в бокал Судьбы, где замешали густококтейль из вод Кокитоса и Летыс мистериями сотен фолиантов,расколотых на тысячи лексем.Ты вместо погребения талантовотведай черногончий этот сэм.1. ЮНГА «ПЬЯНОГО ВОСХОДА»
ГОП-АРТ
В январе 1995 года я был начинающим рисовальщиком, балансировавшим на краю бездны, готовой поглотить все таланты и божьи искры, отнюдь неспроста начисляемые премудрой Судьбой. Кто же мог знать, что прежняя жизнь со всеми её треволнениями окажется лишь тренировкой, готовившей к встрече, которая отобьёт желание зарывать бесценный дар и гонять над его останками «эскадрон моих мыслей шальных», покуда место погребения окончательно не вотрётся в пейзаж, как это стало с могилой Чингисхана.
В ту зиму причиной уныния послужили первые погружения в черниговское арт-желе, наполненное пузырьками, в которых обитали местные мэтры с приставкой «санти» – члены так называемого «Союза художников».
– Заметил, что у вас нет больших картин, – сказал я, осматриваясь во время посещения одной из мастерских. – Это как-то связано с творческими принципами?
– Какие, нахер, принципы? – проворчал санти-мэтр. – От мелочи проще избавиться, если вдруг что. Можно быстро сжечь, сломать, залить краской или, если жалко уничтожать и время позволяет, записать по-быстрому чем-нибудь нейтральным.
– Зачем? – удивился я.
– Ну, мало ли. Всякое бывает.
– Всякое – это что?
– Будешь хepнёй заниматься – скоро узнаешь.
Мои кортежи мистических бестий, нарисованные в разных техниках и стилях, вызывали у владельцев корочек СХ реакцию, сходную с той, что возникает у неопытных чертей при контакте с архиерейским ладаном класса «А». Благостные рыльца живописцев кривило и морщило, они отворачивались и начинали через плечо, скукоженными голосками, мямлить несуразицу о непонятно кем, когда и зачем установленном примате натюрмортов над вольной россыпью искр демиурга.
– Эта васа, гм-гм, свобода мозет быць нузна где-то у капиталистов, в какой-нибуць, сказем так, э-э-э, Амелике. Понимаеце, юноса, класота долзна быць, тэкскээць, класивой, окунаць в эсцецику. Хоците сцаць настоясцим (aaпцьxyй!) худогником, зивопизьцем – лисуйте плиятное: пейсази, натугмогды, а не тот, эм-нэм-нэ (сморк!), хаос, котолый вы, тэскээць, э-э-э (апцьхрюк!), воспеваеце, гм-гм…
Как-то раз, январским утром, я посетил очередного натурмордого пейсажиста, чья убеждённость в собственной настоящести зиждилась на выборе пути ещё студентом: до могилы топтаться по пленэрам, плодить бессмысленные тонны этюдов, надеясь таким образом выродить столь эпохальную нетленку, что даже корифеи ахнут, падут ниц и дадут автору звание «народного» с надбавкой к пенсии и хорошим местом на кладбище.
– А гроб? – спросил я.
– Кой такой глоб? – просопливил «зивопизец», настороженно побулькивая ноздрями.
– В котором «народного» зароют. Надеюсь, тоже хороший, профсоюзный? Доски первый сорт или всё-таки высший? Иначе какой смысл угробиться, горбатясь на грёбаных пленэрах. А салон кожаный, двухэтажный? С вентиляцией, подсветкой, подогревом и телевизором? То есть, если что, от скуки там точно не умрёшь, да? И ещё такой важный момент: у «народного» гроб с карманами или без? Хорошо, когда они внутренние, но и внешние, пожалуй, тоже не помешают. Ой, чуть не забыл спросить о главном! Когда нам уже сделают спецкладбище для «народных» и «заслуженных»? Элите, знаете ли, западло лежать рядом с чернью.
Посеревший сопелье засопел, задёргал щекой и, процедив, что у него ещё «куца дел», поспешил завершить аудиенцию.
Я вернулся домой с решением выкинуть к чёртовой матери все свои рисунки и больше не ходить к мазилам, киснущим в прокуренных мастерских ради надбавок к пенсиям и «хороших» мест на кладбищах.
Из соседней комнаты вышла мама, оценила мрачность моей физиономии и вдруг спросила:
– А почему ты не сходишь к Грише?
– В смысле? К какому ещё Грише?
– Ну, к Грише Стожару!
Я понятия не имел, о ком речь. Оказалось, мои родители знают его давным-давно, с тех незапамятных времён, когда он пришёл работать художником-ретушёром в редакцию, где и корпит по сию пору. А недавно была его первая выставка в местном Художественном музее. Выяснилось, что он картины пишет и довольно большие! Правда, картины эти, мягко говоря, неоднозначны. Хотя и забавны. Местами.
– Есть в ваших рисунках что-то общее, – добавила мама. – Вот прямо сейчас бери и неси ему свои шедевры. Он мужик толковый, знающий. Может что-то дельное посоветует.
И, спохватившись, добавила ещё кое-что:
– Только он очень выпить любит. И уговаривать умеет. Так что ни в коем случае не соглашайся, если предложит. Отказывайся наотрез. Скажи, что непьющий, спортом занимаешься. Вобщем, ври что хочешь, только не пей с ним.
– Да ладно, тоже мне проблема, – беспечно ответил я, застёгивая куртку и вспоминая сколько было выпито в бесплодных беседах с санти-мэтрами, чьё сакральное отношение к спиртному однажды выразилось в эмоциональной фразе, брошенной самым титулованным из них, Рыгором Ферапонтычем Мездрыщенко, в адрес коллеги, отказавшегося участвовать в застолье под предлогом необходимости завершить работу над натюрмортом, заказанным под цвет чьих-то штор:
– Шо воно там намалює, якшо воно не п'є?!
Пройдя адские круги пьянок с базарными торгашами и районными манкуртами, но так и не изведав всех «прелестей» похмелья, я наивно воображал себя эдаким утёсом, о который разобьются алкогольные волны любой степени крепости.
Мой путь лежал в место не столь отдалённое, сколь неизведанное – в серую глыбу издательства «Стрижень», где располагался печатный орган, в котором трудился Стожар.
Что удивительно: когда искомое здание замаячило впереди, то вместо обычного уныния, сопровождавшего мои погружения в желеобразные мирки кистепёрых некрофилов из Худкомбината, внутри неожиданно стала расцветать какая-то необыкновенная теплота и тихая радость. Полагаю, дорогие читатели, вы переживали похожие чувства, возвращаясь в родные края после долгой разлуки и видя на горизонте с детства знакомые очертания самого лучшего и любимого города на свете.
По мере приближения к издательству радость усиливалась. При этом, парадоксальным образом, она оставалась всё такой же тихой. Было категорически непонятно, что стало причиной неожиданного изменения моей внутренней погоды с минуса на плюс. Так, прислушиваясь к себе и пробуя анализировать, я вошёл в здание и поднялся на лифте на 4-й этаж.
А, и вот ещё что. Примерно, метрах в тридцати от издательства рядом со мной по заснеженной обочине, настойчиво стрекоча, заскакала сорока. Обычная сорока, ничего особенного. Она то проваливалась в снег, то выпархивала из него, что-то тарахтя на своём языке и сопровождая меня до гранитной лестницы, ведущей к центральному входу. Было в этом нечто странное. В какой-то момент я ощутил себя в роли прибывшего в волшебную страну чужеземца, которого секретарь сорочьей канцелярии подробно инструктирует о правилах этикета, принятых в дарбаре у падишаха, пред чьи светлы очи я вскоре должен предстать и вручить свои верительные грамоты…
Итак, двери лифта распахнулись и я вышел на этаже, который занимала редакция газеты «Черниговский огонёк» или «Черногон», как её сокращённо называли в народе. Чувство немотивированной радости стало чуть ярче, а к нему прибавилось ещё одно иррациональное ощущение: уверенность в том, что сейчас всё идёт как надо – я наконец-то в правильном месте, в правильное время. Тут же в нос шибанула, характерная для тогдашних редакций, плотная атмосфера с доминирующей композицией из разносортного курева, оттеняемого тончайшим амбре французских духов в сочетании с лёгкими нотками целлюлозы и перегара.
Тёмный коридор был пуст и тих. Из кабинетов слышался то приглушённый стук печатной машинки, то звуки музыки, перемежаемые шуршанием настраиваемого радиоприёмника. За одной из дверей некто разглагольствовал:
– Видел заголовок заметки о каком-то йоге: «Человек, который выходит в астрал, не ел 17 лет». Закусывал только, ага. А написали бы: «Выходец в астрал 17 лет не cpaл» – сразу интрига, есть о чём покалякать под пол-литра!
Лишь самая дальняя дверь была широко распахнута и оттуда, прорезая сумрак, лился свет. Почему-то возникла совершенно чёткая уверенность, что путь мой ведёт именно туда. Тем не менее, я шёл не спеша, читая таблички на дверях, в ожидании, что на одной из них попадётся заветное слово «художник». И оно оказалось на той самой, открытой, двери вместе с именем и фамилией хозяина кабинета.
Стожар сидел у окна, склонившись над освещённым лампой столом, и сосредоточенно что-то выводил пером на куске ватмана. Довольно крупный пятидесятилетний дядька в очках, джинсах и пёстром свитере. Пузатый, усатый и лысый.
Не знаю, друзья, было ли у вас такое, что вы видите человека впервые, а вам уже понятно и то, каков он по своей сути, и как сложатся ваши дальнейшие отношения, и каковы будут последствия. Те, у кого так было, надеюсь, меня поймут. Я посмотрел на сидевшего в кабинете человека и с необычайной ясностью осознал: это – наставник. Он ответит на все вопросы и укажет путь. От него я узнаю много нового и эти знания меня изменят. Работа предстоит трудная, но интересная и весёлая. После его ухода никого подобного в этом городе уже не будет. Разве что в следующей жизни?..
Человек поднял голову и взглянул на меня. Я молча приблизился и положил перед ним папку с рисунками. Пока он открывал её, мои уверенность и радость куда-то улетучились.
«Если скажет, что вместо страшных бестиариев нужно рисовать красивенькие натюрмортики, то хрен ему!» – подумалось мне. – «Назло стану рисовать ещё страшнее!».
– Охтыж ёпт!.. – раскатистым басом изрёк Стожар, с восторгом рассматривая одно из моих чудищ.
– Ха! Слушай, а охренительно-то как! – громогласно воскликнул мастер, беря второй рисунок.
– Ого! А этой ты вообще убиваешь наповал! – прокомментировал он третью картинку. – Старик, ты кто? Откуда? Где берёшь такие шикарные идеи?
Я растерянно представился и ответил, мол, местный, черниговский, а идеи как-то сами приходят, может потому, что иногда рисую под музыку, ну и вот…
– Гога! – решительно сказал Стожар, подымаясь из-за стола и протягивая мне свою широкую ладонь для знакомства. – Пятьдесят грамм потянешь?
– Да я и больше потяну, – хвастливо заявил я, пожимая крепкую пятерню. – Моя мама с вами в редакции работала, отца вы тоже знаете…
Недавнее мамино предостережение на секунду вспыхнуло в сознании и посыпалось пеплом в потёмки забвения. С первым коллегой, столь лестно отозвавшимся о моих картинках – и не выпить? Нонсенс… Абсурд!
– Кому-то ещё свои работы показывал? – спросил Гога.
Я назвал несколько фамилий.
– О, ты был у Блядолиза! И что он сказал?
– Сказал, что нужно рисовать пейзажи и натюрморты, а не такое вот… непонятное.
– Сучий долбодятел продолжает дубасить башкой в бетонный столб! – громыхнул Стожар. – Как можно быть настолько слепым идиотом, чтобы не видеть, что человек рисует не ту академическую дрянь, которую в безмозглые жбаны вдалбливают безголовые ослы! Человек рисует СВОЙ МИР!
Старик, на то, что вякал этот опарыш наплюй и разотри. Он однажды ко мне пытался втереться. Пришёл такой, раболепствующий: «Ой, Григорий Макарович, вы же наш мэтр! Вы же наша гордость! Я вас так уважаю!». Всё пытался профессиональные секреты выведать да мои выходы на забугорье. Ну, я ему рассказал, что посчитал нужным. Выпивали пару раз за мой счёт – этот шнурок всегда с пустыми руками являлся, а потом за моей спиной, за глаза, грязью меня поливал: мол, Стожар алкаш, ноль без палочки-выручалочки и работы у него злые, то ли дело мои иконки – во внутренних органах нарасхват (ментам абы под старину цвета испражнений), что подтверждает правило тяги к тому, чему сам подобен.
– А копам охота уподобиться инокам у икон. Угу, ясно.
– Я имел ввиду иную параллель, но верна и её инверсия.
Досмотрев остальные рисунки, Гога тщательно сложил их в папку и вынес вердикт:
– Парень ты талантливый, хотя лентяй, каких мало. Не обижайся, сам знаешь, что это так. Хорошее внимание к деталям, любишь их выдpaчивать, как и я в своих работах. Тёток жoпacтыx и cиcяcтыx уважаешь. Я тоже. Видел мою жену?
– Нет.
– Однажды бате твоему я сказал по молодости: «Женя, в этом городе только две по-настоящему красивые женщины. Одна – блондинка, другая – брюнетка. На одной женат я, на другой – ты». Ну, моя-то всё-таки красивее. Зато Жеке повезло, что у его жены характер золотой. А у моей Галки такой, что… Ей нужно было родиться пираткой в XVIII веке и потрошить фрегаты с золотом. Но она родилась в день смерти большевистской сучки Розочки Землячки, поэтому потрошит меня.
Бросив взгляд на висящую у входа в кабинет картину «Сияние старого Месяца», он задумался, побарабанил пальцами по столу и сказал:
– Значит так, Лёва Шахов. Поскольку ты сын моих давнишних друзей Жени и Тани, поскольку ты рисуешь самобытно, оригинально и с иронией, и поскольку у нас много общего – определяю тебя в юнги на теплоход «Пьяный Восход» с дураками на подводных крыльях и пердячем пару! Вместо фанфар – щас спою! Не тебя спою – такие, как ты, сами кого хочешь могут споить, – а спою что-нибудь торжественное… Ой, вы, кони вороны-ы-ые, шо вы мчытесь, як дурны-ы-ые! – нараспев пробасил Стожар и с хитрым прищуром сверкнул очками. – Не знаешь такую песенку?
Я отрицательно пожал плечами.
– Местного разлива псалмокатара. Исполняется впервые. В кои-то веки требуется ритуал очистки по завету Филалета.
– Что ещё за…
– Вон типография, – Гога кивнул на белевший за окном корпус, – а в ней верстальщики рвутся наверстать упущенное их предками метранпажами, когда союз пятой и четвёртой власти руками третьей снимет седьмую печать с ларьков «Союзпечати». Как-нибудь свожу к мэтру пажеского корпуса, авось научит завёрстывать пробелы между строк твоих аттестатов.
Пока он вполголоса напевал про дурных коней и бродил по кабинету, зачем-то заглядывая за шкафы, открывая и закрывая дверцы тумбочек, выдвигая и задвигая ящики стола, совершая прочие, не вполне понятные, действия, я решил осмотреться.
Картины, развешанные по стенам, вызвали живейший интерес. Они, казалось, насыщали атмосферу мастерской искрами мудрого юмора и жизнелюбия. В то же время, в них ощущалось присутствие некой неуловимой тайны, которую страстно хотелось разгадать. Это резко отличало его творчество от мутива, процветавшего в затхлых берлогах Худфонда. Впрочем, картины Стожара – это отдельная и весьма обширная тема, раскрывать которую следует постепенно.
В отличие от курятников, где в мышиной возне прозябали санти-мэтры, его мастерская выглядела опрятной и светлой. Вместо привычного для худфондовцев загаженного пола с драным линолеумом – аккуратный и чистый паркет. Вместо нагромождения залежей разного барахла – на виду только самое необходимое: два небольших шкафчика, три стула, у одной стены – мольберт, у другой – удобный, функциональный (сегодня сказали бы дизайнерский) рабочий стол, который, как позже выяснилось, Стожар сделал сам. В углу кабинета, за шкафом – рыбацкие снасти. А в противоположном углу…
То, что там стояло, я впервые увидел в таком количестве. Широкий и объёмистый, мне по пояс, прозрачный полиэтиленовый мешок, доверху набитый разнокалиберными крышечками от водочных бутылок. Неужто эти тысячи крышек – от тары, содержимое которой могучий организм хозяина кабинета трансформировал в упомянутый им пар, служивший двигательной силой творческих импульсов? Я решил удостовериться и спросил, указав на мешок:
– Это всё… вы сами?
– Нет, что ты, – добродушным баском загудел Стожар. – Друзья помогли. Правда, этот мешок уже третий. Два других у приятеля в гараже стоят, ждут своего часа.
– Зачем?
– Использую их для какого-нибудь коллажа. Есть некоторые задумки. А если передумаю – тебе отдам. Глазей тогда сколько влезет, проникайся могуществом, пригодится… Да куда ж она, родимая, закатилась? – задумчиво оглядываясь сказал он и опять принялся хлопать дверцами и ящичками.
– Что вы ищете?
– Заначку. Вчера ещё была. Может, Зюзик её перепрятал? Или свистнул да сам и выдул втихаря.
Внезапно, в кабинет вскочил улыбающийся и очень энергичный человек, похожий на повзрослевшего Иванушку-дурачка. Его волосы хаотичными вихрами торчали во все стороны, а серый мешковатый костюм был измят, как будто человек в нём спал. Из-за переполнявшей вихрастого энергии он весь вибрировал, размахивал руками, притопывал ногами, напоминая разминающегося танцора.
– Гриша! Доброго! Слушай, ты когда…
– Ты когда вчера с нами сидел, – перебил его Стожар, – куда последнюю бутылку задевал? Только так, Зюзенштрудель, – не гони, что не помнишь и не матерись, как вчера. Ты знаешь, я этого не люблю.
– А, так она у меня! – бодро выпалил растрёпанный весельчак. – Принести? «Экстра», как положено! Стоит в секретном месте. Ты сам вчера попросил её спрятать, чтобы сегодня, так сказать, обрадоваться и…
– И тащи её сюда!
– Яволь, мин херц! Доброго! – радостно, как старому знакомому, кивнул мне вихрастый и убежал.
Где-то рядом громко хлопнула дверь, раздались быстрые шаги. Весельчак вновь возник на пороге мастерской, придерживая торчавшую из бокового кармана пиджака бутылку «Экстры», и замер в ожидании дальнейших приказаний.
– Где стакан, ты знаешь, – сказал Стожар, устраиваясь на стуле и с усмешкой наблюдая за быстрыми и точными движениями Зюзика. Тот ловким щелчком свинтил крышку, поймал её на лету, резким жестом свободной руки выдернул из шкафчика белую чайную чашку, опрокинул в неё бутылочное горлышко и, пока водка булькала, вопросительно смотрел на хозяина мастерской.
– Давай-давай, – поощрил Гога.
Зюзик закрыл початую бутылку и спрятал её в шкаф. Затем приосанился и стал в позу, подобную той, что принимает оперный певец перед началом пения. Плавно молвив на выдохе «Будем!», он запрокинул голову и швырнул чашкино содержимое себе в глотку. Выпрямился, по-актёрски поклонился – сначала Стожару, потом мне, – и с гордо поднятой головой отправился на выход.
– Чашку оставь, Зюзеншницель! – гаркнул Стожар.
Зюзик, не оборачиваясь, поставил чашку на стол и медленно, с достоинством, удалился.
– У него действительно такая фамилия? – спросил я.
– Какая?
– Зюзен-что-то-там… Зюзенштраус или… Как вы говорили?
– Петька-то? Да нет, он Тяпкин. Но по сути – Зюзенштраус. Чудик за эти годы мне так глаза намозолил, что стал из картины в картину плясать. Бывает, неосознанно сую его в композицию. Особенно, когда нужен типаж такого кондового дурака из толпы. Коллега у меня недавно спрашивал: что это ты, говорит, из Зюзика агента вместо интрудера решил сделать?
– Что значит «агента»?
– Вон, смотри: там эта рожа впервые вылезла, – Стожар, будто не заметив моего вопроса, указал на картину, где было изображено торжественное (с начальством на трибуне и оркестром) открытие в колхозе первого общественного туалета.
– Изначально я назвал эту штуку «Новая cpaльня», но в музее, накануне моей первой персональной выставки, узрели крамолу и попросили заменить второе слово на что-то более нейтральное. Я исправил «с» на «о» и стала «оральня». А музейным тёткам задвинул телегу, мол, это социальная сатира, намёк на отсталого начальника, привыкшего орать на подчинённых. Даже в разгар перестройки он продолжает руководить, оря согласно принципам гласности и плюрализма. Тётки уши развесили и проворонили оральный аспект имени дедушки Фрейда, который в картине тоже присутствует. Впрочем, смена названия не в силах отменить факт по-дурацки помпезного открытия обыкновенного толчка, который и сейчас торчит посреди колхоза, как прыщ на лысине.
– Вы имеете ввиду, что такое действительно было – целая церемония ради какого-то скворечника из досок, куда колхозники навалят дерьма?
– Так у меня все работы основаны на личной истории. Иногда беру за основу истории друзей. Может быть, и твою историю увековечу, когда окончательно разберусь, что ты за фрукт из буфета, – лукаво подмигнул Гога, устанавливая на стоявшем посреди кабинета стуле добытую из шкафа «Экстру» и два гранёных стакана.
Я вгляделся в картину и действительно обнаружил узнаваемый профиль Зюзика, у которого изо рта вылетал рой чёрных букв. Там было много других любопытных деталей, которые не мешало бы рассмотреть повнимательнее. Я чувствовал, что сегодня получил карт-бланш и могу расспрашивать мастера о чём угодно. К сожалению, хотелось задавать исключительно глупые вопросы и, не придумав ничего умнее, я брякнул:
– А как называется ваш стиль?
– Хм… Стиль, говоришь? – Стожар нахмурился. – В том-то и дело, брат, что я не знаю. А ты бы как назвал?
Я бы с радостью соригинальничал и сказанул что-нибудь позаковыристей, да только голова была пуста, как бубен. Медленно идя по мастерской, я рассматривал картины, стараясь понять, как они сделаны и каков главный посыл или, как сказали бы продвинутые, мэсэдж каждой из них. Вглядываясь в мелочи, копя и сопоставляя впечатления, пробуя всё это как-то обобщить, я чувствовал, что от меня ускользает нечто важное. Но что?
Желая схитрить и выгадать себе больше времени на размышление, я спросил:
– А как бы вы назвали своё творчество?
Стожар засмеялся, мотнул головой, словно отгоняя назойливую муху.
– Ну и вопросы у тебя! Как назвал бы… Стожартизм – вот как назвал бы! Картина-анекдот – вполне себе жанр. Такие, знаешь, станковые комиксы про наш нынешний маразм, где нигилизм граничит с онанизмом, а оптимизм с идиотизмом…
Осенённый внезапной мыслью, я воскликнул:
– Помните, что советовали древние? Зри в корень!.. Я зрю и задаю себе вопрос: что вмещают эти картины? Приколы, кураж, глумление? Да! Но есть и кое-что более важное – тайна! Тайна, которую любой ценой необходимо разгадать. Тайна жизни, увиденной сквозь магический кристалл народной мудрости. Радость языческого огня страстей! Коктейль из ярких красок, баловства и абсурда, который творят ваши персонажи на фоне маразма, в котором мы живём!
– Ого! – сказал Стожар с ироничной ухмылкой. – Похоже, ты за пять минут понял меня лучше, чем я себя за всю жизнь. Ученик невзначай превзошёл учителя? Мне бежать за бутылкой?
– Да не нужно никуда бежать! – отмахнулся я. – Вот же она!
Между нами стоял стул, застеленный листами «Черногона», а на его поверхности расставлены бутылка и стаканы. Гога одобрительно кивнул и мы расположились у накрытого стула, напоминая шахматистов перед началом партии. Мне выпало сидеть спиной к по-прежнему широко распахнутой двери кабинета.
– Ничего, что дверь открыта? – спросил я.
– Ничего.
– А если кто-то мимо будет проходить?
– Ну, кто-то всегда проходит.
– То есть, пусть все видят, что мы тут пьём?
– А мы разве пьём что-то особенное? Это всего лишь «Экстра».
– Да, но это «всего лишь» в рабочее время!
– А-а, вот оно что. Ну, тогда дверь можно чуть прикрыть. Наполовину… Нет, это ты её почти закрыл. Ничего же не видно.
– Что вы хотите увидеть?
– Пока не знаю. Может, как редактора пронесут вперёд ногами. Или, как у его секретарши всё колышется, когда она мимо хиляет. Знаешь, что в обществе слепых по этому поводу говорят? Там видно будет! Наливай!
Моя рука машинально дёрнулась к бутылке и застыла на полпути.
– Погодите! Закусывать же нечем!
– Закусывать нечем?! – воскликнул Стожар с такой интонацией, словно я ему сообщил нечто крайне удивительное и невероятное. На лице мастера отразилась неподдельная озабоченность. Он внимательно осмотрел наш импровизированный дастархан, даже заглянул под него. Потом огляделся по сторонам и с сожалением констатировал: