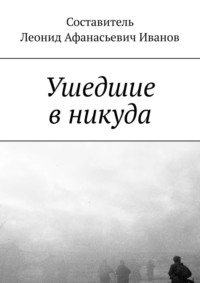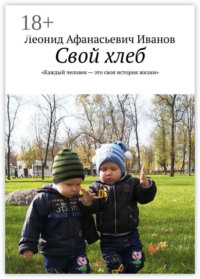Полная версия
Жизнь – река

Жизнь – река
Леонид Афанасьевич Иванов
© Леонид Афанасьевич Иванов, 2025
ISBN 978-5-0067-7488-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
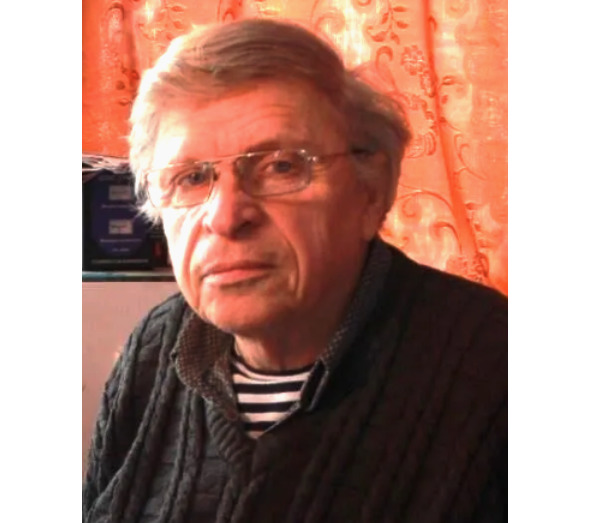
Леонид Афанасьевич Иванов
«Всегда ищите выход! Среди беспорядка найдите простоту; среди раздора найдите гармонию; в трудности найдите возможность.»
Альберт ЭйнштейнУченыйОб авторе
Леонид Афанасьевич Иванов появился на свет в 1950 году в живописном селе Большая Знаменка, что в Каменско-Днепровском районе Запорожской области, в семье трудолюбивых крестьян. Его детство и юность были непростыми, но его неугасимый дух и стремление к знаниям помогли преодолеть все трудности. Он получил среднее образование и профессию, благодаря которой обрел стабильное и достойное будущее. Сегодня Леонид Афанасьевич наслаждается заслуженным отдыхом, наполненным воспоминаниями и размышлениями о жизни.
О книге.
От автора.
Исчезли некоторые улочки, где когда-то жили герои этой книги. Рушатся дома, словно их поглотила сама вечность. Плавни, когда-то величественные и живые, теперь скрылись под водами рукотворного Каховского водохранилища.
Мои дети и внуки иногда говорят мне, что этого никогда не было. Но память о прошлом живёт в моём сердце, и именно она побудила меня написать эту книгу. Я хочу, чтобы мои потомки знали, что здесь, на этой земле, жили люди, чьи истории заслуживают быть услышанными.
Меня всегда поражало, как легко люди могут изменить свою жизнь, стремясь к лучшему, строя дома, создавая семьи. И вдруг им говорят, что всё это неправильно, что нужно разрушить и начать сначала. Особенно тяжело это понять пожилым людям, которые вложили всю свою душу в то, что построили.
P. S. Пока писалась книга, ситуация резко поменялась. И даже исчезло рукотворное море, обнажив старинный ландшафт. Правда, не все речки сохранились. Мелкие притоки Конки замулены илом и песком. Нет той растительности, что природа создавала столетиями. Лунный ландшафт. Возврата к прошлому нет. Человек жив, и он создавать должен что-то новое, а не разрушать. Верю, что так и будет. Здравый смысл победит.
Рецензия на книгу Леонида Иванова «Жизнь – река»
Есть книги, в которых ты словно не читаешь, а возвращаешься. Не в конкретное время – в душу. В пахнущий вербой и камышом воздух. В тишину знойного дня, нарушаемую всплеском рыбы. В странную, невозможную в своей правде, страну – где подростки с лицами взрослых людей убегали с уроков не ради баловства, а чтобы хоть на день почувствовать себя живыми. «Жизнь – река» Леонида Иванова – это не художественное произведение в привычном смысле. Это возвращение памяти, сделанное с болью, нежностью и, как ни странно, надеждой.
Герои этой книги – не вымышленные персонажи, а наши соседи, родственники, мы сами в каком-то возрасте. Подростки с «Камчатки» – так в народе называли крайнее крыло школы №1 села, – это поколение, которое пыталось успеть пожить наперекор системе. Они не были бунтарями в романтическом смысле. Они были обычными – голодными до приключений, наивными, немного потерянными. И именно эта простота – и делает их живыми. Автор не украшает, не редактирует жизнь – он даёт ей быть. Такой, как есть.
Истории о рыбалке в плавнях не просто вставлены для антуража. Плавни в книге – это одновременно и место силы, и укрытие от взросления, и мост между поколениями. Там ловят рыбу, жарят на костре щуку, обсуждают судьбу, молчат о боли. Там звучат голоса тех, кого уже нет. В плавнях герои сталкиваются с настоящими уроками, не по школьной программе, а по жизни. Семён Фёдорович, с его войной за плечами, стал для них не просто учителем – он стал тем, кем в какой-то момент должен стать каждый взрослый для ребёнка: ориентиром.
А за спиной у всех – история. История большой страны и маленького села.
История колхоза, Газ-АА, полуторки, у которой был свой нрав и свой характер.
История, которую снесли, зарыли, затопили. Каховское водохранилище в книге не просто как географический объект, а как метафора: сначала затопило село, а теперь – исчезло само море. Под водой остались не только мазанки и сады, но и голоса. И книга – это попытка услышать их снова. Не как эхо, а как живой разговор.
Одна из самых пронзительных сцен – «диалог в преисподней», где Семён Иванович смотрит на своё родное село с небес, а видит – стеклянные теплицы, тень от колхозов и заросшие могилы.
Никто не приходит.
Никто не вспоминает.
Он ищет свою хату, а находит только бугор с бурьяном.
Эта сцена не выдавливает слезу – она просто показывает: жизнь проходит, если её не помнить – она уходит насовсем. А ведь каждый дом, каждый колодец, каждый мальчишка с удочкой на рассвете – это кирпич настоящей истории. Той, что в учебниках не напишут.
Лихие 90-е в книге описаны не лозунгами, а штрихами. Погоня за длинным рублём, разруха, забытые поля, сёла, откуда все уехали.
Но и в эти годы автор находит место добрым людям, случаю, где кто-то помог, кто-то не предал.
Мир не без добрых людей – не просто выражение, это, пожалуй, и есть лейтмотив книги. Утешение, что даже в полной разрухе кто-то всё ещё способен на человечность.
«Жизнь – река» – очень точное название. Потому что она течёт. Мимо нас, сквозь нас, иногда теряя русло. Иногда её перекрывают дамбами и запрудами. Иногда она высыхает. Но в ней – вся правда. Про тех, кто любил и страдал, кто не вернулся с войны, кто вырос, но так и остался в душе подростком. Про тех, кто строил мир, в который никто не пришёл. И это – немой укор живым. Мягкий, без злости, но – укор. Напоминание: помнить нужно не ради прошлого, а ради того, чтобы не потерять себя.
Эта книга не требует рецензий. Она требует – прочитать, отложить, и выйти в тихий вечер, присесть у речки и подумать. О том, что ты строишь, кого ты помнишь, что останется после тебя.
Потому что, как пишет Леонид Иванов,
«Возврата к прошлому нет. Но человек жив – значит, он должен создавать, а не разрушать.»
Читайте. Не спеша. И, может быть, впервые за долгое время – не для развлечения, а для души.
Жизнь – река

Жизнь – река
Вступление
XX век для людей стал эпохой испытаний, гениальных открытий и прозрений, фатальных заблуждений, созидательных начинаний и разрушительных войн.
Не стала исключением и наше большое село Большая Знаменка.
Сколько событий прошло в селе со дня его основания. Но сейчас не об этом.
Из конца в конец по главной улице нашего села Большая Знаменка – Красной – более десяти километров. Но первой улицей все же была Нижняя, которая располагалась у самой воды. От этой близости с водой улица сильно страдала от весенних половодий и летних ливней. Первые мазанки ушли под воду во время весеннего разлива. Сделав выводы, переселенцы перестроили свои жилища, подняв их за счет высокого фундамента и постройки «соховых» домов. Переплетали вербовой веткой деревянные сваи, установленные на каменный фундамент. Все щели замазывали соломой, перемешанной с мокрой глиной. Горище и пол также замазывали таким же раствором. Крышу накрывали камышом.
Годом основания села считается 1786 год, хотя отдельные поселения в виде хуторов и отдельно спрятавшихся по балках и плавнях мазанок здесь появились намного раньше.
Большая школа

СШ№1. Большая школа
В 1903 году на перекрёстке современных улиц Сахарная и Большак была возведена «*Большая школа» – образовательное учреждение, которое жители окрестных сёл называли именно так.
Здание, построенное из пиленого ракушечника, добытого в карьере села Петровка, является ярким примером архитектурного наследия дореволюционной эпохи. Его массивные стены и основательная конструкция, характерные для построек начала XX века, свидетельствуют о высоком уровне мастерства местных строителей и мастеров-каменщиков того времени.
В этом году в «Большой школе» было много учеников, которые уже давно должны были закончить обучение, но война не позволила им это сделать.
Все остальные школы располагались в конфискованных в своё время у зажиточных хозяев села, попавших в жернова перестройки тяжёлой жизни крестьян на новый лад. Но кто же захочет отдать своё, потом и кровью нажитое, чтобы в будущем дождаться того светлого будущего, да и дождёшься ли? Многим это так и не удалось увидеть.
Так вот, в этих кирпичных добротных домах располагались по два начальных класса, а потом, по мере передвижения учеников по своей служебной лестнице, желающие продолжать учёбу попадали в старшие классы «Большой школы». Но и здесь здание было одно, но школу можно было закончить как семилетнюю, а можно и как десятилетку. Десятилетка ценилась как более перспективная, но необязательная в то время. Но после её окончания можно было и брать более высокие учёные высоты, такие как институт и выше.
Герои этой истории были обычными подростками-переростками, которые стремились к приключениям и свободе. Они учились в 7-м «А» классе, хотя по годам уже могли и давно её закончить. Класс располагался в правом крыле здания, известном как «Камчатка». В этом крыле часто царила особая атмосфера, способствовавшая неформальному общению и свободным занятиям.
Их главная цель была проста – избежать школьных уроков и отправиться на поиск приключений в недалеко располагавшиеся плавни, где можно было провести время вдали от строгого надзора учителей и возможных наказаний со стороны родителей. Правда, у Ивана ситуация была сложнее: его отец не вернулся с фронта. Как в народе говорят, и не живой, и не мёртвый. Пропал без вести, что добавляло подростку дополнительные переживания и ответственность за семью, так как он был теперь старшим мужчиной в доме.
У его друга отец недавно вернулся домой, но ему ещё очень долго пришлось восстанавливаться от всех мук, которые он испытал во время пребывания в концентрационном лагере и принудительных работах на угольной шахте Германии. Но главное, что живой, а это многое значит для семьи, когда в доме есть отец. Правда, Петро, так звали одного из ребят, сидевших на задней парте, при возвращении отца и не узнал в появившемся в их дворе небольшом, крепко сложенном природой мужчине, выглядевшем очень уставшим. Только по реакции матери он смог определить, что это его отец, но привыкнуть он к его появлению так до сих пор и не сумел.
Отец, придя в себя, устроился на работу в колхоз. Петро видел его только на мероприятиях, проводимых в колхозе. Обычно же отец уже был на работе, когда Петро ещё спал, или, наоборот, возвращался домой, когда Петро уже спал.
Таким образом, оба подростка были вынуждены решать свои проблемы самостоятельно.
Шушукание ребят на задней парте не остается незамеченным учителем физики, капитаном интендантской службы в отставке Михаилом Фадеевичем.
Прервав своё повествование по теме урока, он в таком спокойном тоне обращается к товарищу Петра, Соколову Ивану :
– Давай-ка нам сегодняшнюю тему раскроет Соколов Ваня.
– Иди, дорогой, к доске.
Вот посмотри, какие у нас здесь плакаты развешаны. Они помогут тебе справиться с ответом на мой вопрос.
Иван нервно задергался. Проходя к доске мимо сидевших за партами ближе к доске своих одноклассниц, пытался узнать хотя бы что-нибудь, какую-нибудь путную информацию, чтобы выкрутиться и получить хотя бы троечку, а это уже хорошая оценка.
До него долетели отдельные фразы, которыми одноклассницы пытались что-то сказать ему шёпотом, когда он шёл мимо их парт, упомянув Архимеда. Однако он не смог понять, что именно они имели в виду.
Единственное, что он знал об Архимеде – это то, что так называемые «штаны Архимеда» являются равносторонними.
«Стоп, но это разве физика»?
Подойдя к доске, где висели нарисованные старательно старшеклассниками плакаты, нашел и плакат, где указывалось имя Архимеда.
Немного почитал. Сразу не дошло, а потом и время ответа поджимало.
– Давай, Вань, а то у нас времени нет. Урок скоро закончится, – посматривая на свои командирские часы, подгонял Михаил Фадеевич.
«Нужно потянуть время. Звонок прозвенит, и он спасен», – подумал Иван.
Но тут его взору попался плакат с такой формулировкой. Архимедова сила.
«На тело, погружённое в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости или газа в объёме погружённой части тела».
– А что тут рассказывать? Всё просто, как дважды два четыре.
Собравшись с мыслями, которые метались в его голове, как птицы в клетке, начал Иван, немного заикаясь от волнения. Его голос дрожал, как осенний лист на ветру.
– Если в полную кастрюлю с водой положить какой-нибудь предмет, то он из этой кастрюли с водой выдавит столько воды, сколько объём нашего предмета, опущенного в кастрюлю с водой.
– А что тут рассказывать? Тут очень всё просто.
Класс притих, но ситуация разрешилась мирно.
И тут прозвенел спасительный звонок об окончании уроков.
– В общем, Ваня, тебе повезло. Раскрыть ты эту тему не успел. А в общем правильно. Хвалю тебя за сообразительность. Но больше постарайтесь со своим другом не мешать мне вести урок.
– Хорошо, Михаил Фадеевич, – ответил Иван, скрывая за вежливым тоном ехидную усмешку, которая, словно змея, скользнула по его губам.
Незаметно для учителя он бросил быстрый взгляд на друга по парте и, слегка прищурив глаз, словно целясь из лука, чтобы наверняка поразить воображаемую цель. Его лицо на мгновение превратилось в маску, за которой скрывалась целая буря негодования, что это его вызвали к доске, а не Петра, но затем снова стало невозмутимым, как гладь озера под солнечными лучами яркого весеннего солнца.
Иван не умел долго таить обиду на друга.
Когда Фадеевич, аккуратно собрав свои книги и журнал в старый министерский портфель, покинул класс, друзья незаметно выскользнули в малый коридор. Там, среди толпы школьников, они незаметно выбрались на улицу. Повернув налево, они направились к их укромному месту среди зарослей дерезы на старый погост*, где можно было спокойно насладиться моментом тишины, скрутив самокрутку и погрузившись в размышления по составлению плана действий на оставшуюся часть дня.
Иван, словно в порыве вдохновения, быстро скрутил самокрутку.
Закурил. Развалившись на земле, блаженно затянулся и, медленно выпуская кольцами дым из наполненных лёгких, будто этот дым был для его души живительным эликсиром.
Петро с терпением, достойным скульптора, создающего шедевр, продолжал скручивать самокрутку. Его пальцы осторожно обращались с табаком, рассыпанным на парусиновых штанах, которые мать с любовью подогнала под его рост. Этот табак был украден из кисета отца, который в тот момент, устав после проделанной в колхозе работы, мирно храпел на своей кровати.
Иван, видя, как Петро рассыпает табак, не выдержал и сказал:
– Давай я тебе помогу, а то ты сегодня как мокрая курица в навозе ковыряешься.
– Да мне что-то не хочется курить. Жрать очень хочется. Маковой росинки во рту не было.
– А что так?
– Хотел молока утром выпить, а мать всё продала. Хочет насобирать денег и купить мне новые штаны, а то один я хожу в парусиновых, и девчата надо мной смеются.
«Ты б, говорят, под церкву пошел да насобирал денег на одежду поприличней».
– Обидно, как будто я в этом виноват.
– А ты меньше на них обращай внимания, и всё будет хорошо.
Ну и что, что у меня ботинки кушать хотят. Где мать денег возьмет? Батьки у меня, как у тебя, нет. Мать сама выкручивается как может. А нас у неё кроме меня ещё трое.
– Ну и что, что у меня батька работает, а денег-то колхоз один хрен не даёт.
– И то верно.
– А пошли в плавни, может, что съедобного раздобудем.
– А пошли, – согласился Петро.
Осмотревшись по сторонам из густых зарослей дерезы, где друзья прятались от посторонних глаз своих односельчан, они осторожно, чтобы не поранить лицо и руки острыми шипами растений, выбрались на волю и зашагали по натоптанной его односельчанами тропинке, которая вела к разрушенной пришедшей властью в селе, она им чем-то помешала, выложенной из того же камня, что и школа, церкви.
Проходя мимо ещё не до конца разрушенного храма, Петро задумчиво произнёс:
– Этот величественный храм был возведён одним из мастеров, чьи руки создали все церкви нашего села. Средства на его строительство выделил наш земляк, известный земский деятель Михаил Фёдорович Агарков, который сумел добиться успеха и признания в обществе.
Мать рассказывала, что церковь была освящена в честь святого Александра Невского.
Здесь она обвенчалась с моим отцом, и здесь же крестили многих наших односельчан.
На *погосте, где возвышалась ранее церковь, находили последний приют жители села, перед тем как их души отправлялись в иной мир, их отпевали в этом святом месте.
Камни, изъятые из стен, пошли на возведение мастерской на Чекановой горе*, предназначенной для обслуживания МТС. Непригодный для строительства камень был использован для мощения дороги, ведущей к этим сооружениям, создавая прочное и практичное покрытие, связывающее постройки с окружающим миром.
Проходя по извилистому Петикову* переулку, который, словно таинственный коридор, вел к песчаному берегу речки Архар*, усыпанному белым, как сахар, песком и обрамленному буйной зеленью вербы* и шелеха*, Петро остановился на перекрёстке, где переулок пересекал Сахарную улицу, у дома из красного кирпича и сказал:
– Здесь, в стенах старинного особняка семьи Агарковых, превращённого нынешней властью в инкубатор для вывода сельскохозяйственной птицы для нужд колхоза, появился на свет человек, который пожертвовал двадцать тысяч рублей (что по тем временам было огромным состоянием) и положил начало возведению храма, ставшего символом духовного возрождения и щедрости села.
– Откуда ты всё знаешь? – спросил Иван.
– А мы с матерью часто сюда ходили, когда родная тетка была живая и жила на этой улице.
– Ты должен выбрать путь учителя истории, – с уверенностью сказал Иван.
– Подкатись к нашей директрисе. Она добрая и поможет тебе подготовиться. Отучишься и вернешься в школу преподом. Будешь мозги пудрить таким ученикам, как мы сейчас с тобой.
– А чего к директрисе?
– Ну она же историю ведет у нас.
– А есть заведения, что после семи классов учат?
– Наверное, есть.
– Не с моими возможностями, – парировал Петро.
– Для этого нужно не прогуливать уроки, а как минимум хорошо учиться или…
– Да ты лучше в библиотеку почаще заглядывай, там для себя и найдешь шкатулку с сокровищами знаний. Там, среди бескрайних полок, тебя ждут ответы на самые сокровенные твои вопросы.
Заведующая библиотекой Мария Александровна подберет тебе книгу на любой вкус.
Самообразование ещё никому не помешало.
– Да я думал об этом, но когда я буду читать, а вообще ты хорошую идею подкинул.
– Да я там записан и беру книжки все про технику.
Шофером хочу стать.
– Да я тоже записан, но все книжки беру про войнушку.
Внезапно, словно из-под земли, появился учитель труда Семён Михайлович, его голос, как гром среди ясного неба, нарушил идиллию прогульщиков:
– А куда это орлы собрались? – спросил он.
– Да мы…
– Ладно, не оправдывайтесь. Я вам не директор школы, а вы уже взрослые мужики.
– Да мы на речку собрались, может, что на обед себе сообразим.
– Что, проголодались? Дома есть нечего?
– Угадали, – понуря голову, оправдывались друзья.
– Ну и какими приспособлениями вы хотите себе раздобыть обед?
– А мы об этом не подумали.
– Давайте вместе сходим в плавни, только зайдем ко мне домой, я возьму кое-что, и айда на речку.
Я же учитель труда, а значит, должен вам помочь и научить выжить в этом мире.
– Батьки ваши живые или с войны не вернулись?
– У Петра живой, трактористом работает. А вот мой не вернулся с фронта.
– А твой, указывая на Петра, не Степан Панкеев?
– Да.
– Батька у тебя низенький и крепкий, особенно руки у него как молот. Раз врезал – и с ног сбивает, а вот ты что-то как стропила вымахал, не в батьку удался.
– В мать пошел. Она выше батьки.
– Тогда ясно.
– Ну идите, я вас догоню.
Плавни
Семен Федорович ловко перемахнул через заграждение, сплетенное из вербовых веток. Нырнул в открытые двери сарая и через пять минут уже шагал рядом с хлопцами.
– Вот попробуем на закидушку что-то путное поймать и на костре поджарим. Не помирать же с голоду. Степнякам тяжелее выжить, чем нам, которые рядом с плавнями живут, – сделал вывод Семен Фёдорович.
– Нужно, ребята, выживать и находить способ, как выкрутиться из любой жизненной ситуации. Иначе труба. В жизни выживает сильнейший.
– А ещё я вам посоветую не прогуливать уроки. Ведь на уроках вас чему-то учат. Даже если вы не всё понимаете, там где-то в подсознании что-то да остается.
– Уже лет по шестнадцать есть?
– Угу. Летом будет.
– Вот видите, я в свое время уже работал, а вы ещё горобцам дули даете. Родители хотят, чтобы из вас путное что-то в жизни получилось, а хвосты быкам крутить и неучёные могут.
Так за разговорами и попали на Архар.
Семён Фёдорович окинул опытным взглядом берег и вдруг спросил:
– В плавни пойдём или домой нужно?
Друзья переглянулись между собой и решили, что такого случая у них может и не быть, чтобы с опытным человеком попасть в плавни. Им больше степь знакомая. Они там как у себя дома.
– С вами пойдём.
– Тогда сейчас.
Он подошёл к лодке-плоскодонке, отвязал её и, приглашая ребят помочь ему, ловко столкнул её в воду.
– Вот видите. Минут через 15 будем на том берегу.
На веслах умеете ходить?
– Не… не пробовали. А что там сложного? Бери весла да и греби, – сказал Иван.
– Ну вот мы сейчас и проверим, на что ты способный.
– Запрыгивайте в лодку.
Семен Федорович, усевшись за весла, немного отчалил от берега и предложил Ивану сесть за весла.
– Давай покажи, как ты умеешь это делать. Может, и вправду ничего сложного.
Петро уселся в корме, а Иван умостился за весла, где ему уступил своё место Семён Михайлович.
И представление началось.
Иван налегал на весла со всей молодецкой дури, а лодка, словно заколдованная, рыскала то в одну сторону, то в другую.
– Ваня. Не рви жилы. Нужно равномерно нажимать на весла. Лодка легенькая, она и будет тебя слушаться. А ты, как упертый ишак, стараешься силой её сдвинуть с места. Не заглубляй весла сильно в воду, а то, наверное, дна достаешь.
Немного спогаля Иван, следуя советам учителя, приспособился к веслам, и лодка пошла веселее.
А вот и берег.
– Ну что, выгружаемся.
– Тут вот и коряга есть, чтобы пришвартовать лодку и чтобы её ветром не угнало в сторону Мамай-горы.
Иван еле вылез из лодки, весь мокрый, словно из парной вылез.
– Ну что, Вань, легко управлять моей «Чайкой»?
– Тяжело.
– Да нет, Вань, это от неумения. Кругом нужна сноровка, а там и профессиональная привычка появится.
– Да, Петро?
– Не знаю, – покраснев, ответил Петро.
– Назад ты будешь пробовать. У тебя теперь опыт есть. Видел, как Иван на весла налегал.
Петра прошиб холодный пот, когда он представил себя сидящим за веслами этого водного транспорта. Его охватило острое чувство неуверенности и сомнения в своих силах.
«Я должен попробовать», – подумал он.
«Это не просто испытание на выносливость, это шаг к тому, чтобы стать тем, кем я хочу быть. Мужчиной, который не боится трудностей и готов преодолевать любые преграды».
Рыбалка в плавнях
Днепровские плавни служат великолепным природным инкубатором для разнообразных видов пресноводных рыб: окуня, карася, щуки, карпа и сазана.
Здесь также можно встретить величественных сомов.
Ловля рыбы здесь – это не просто возможность добыть обед, но и настоящее удовольствие для любителей рыбалки, где каждый заброс удочки может стать началом увлекательного приключения.
Ловля камышового карася не требует особых усилий и навыков, что делает её привлекательной для многих рыболовов. Эта рыба, несмотря на костлявое мясо, ценится за свой уникальный сладковатый вкус.