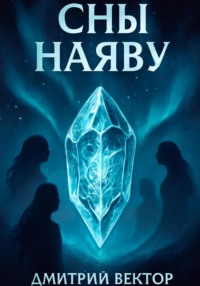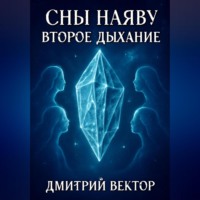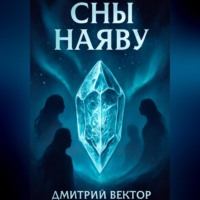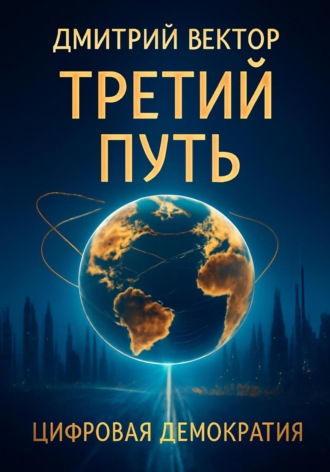
Полная версия
Третий путь
Томаш понимал логику Швейка, но опасался поспешности. Успех в Таборе был во многом обусловлен тщательной подготовкой и относительной простотой городской структуры. Целый регион представлял собой качественно иной уровень сложности.
– Хорошо, – согласился он наконец. – Но поэтапно. Сначала ещё три города с разными характеристиками, затем сельские районы, и только потом Ческе-Будеёвице как региональный центр.
– Договорились.
Выбор следующих городов для эксперимента стал отдельной задачей. Команда провела две недели, анализируя социально-экономические показатели, структуру населения, уровень гражданской активности. После долгих обсуждений остановились на Писеке, Страконице и Тршебони – городах с принципиально разными профилями.
Писек – древний город на реке Отаве с населением около тридцати тысяч – славился своими историческими памятниками и развитым туризмом. Страконице – промышленный центр с мотоциклетным заводом и традициями рабочего движения. Тршебонь – курортный городок, живущий за счёт спа-туризма и рыбоводства.
– Если система заработает во всех трёх городах, значит, она действительно универсальна, – объяснила Эва команде на совещании в пражском офисе.
Мартин Голубик кивнул, но выглядел обеспокоенным.
– Проблема в том, что нам придётся адаптировать платформу под разные специфики. В Писеке основные вопросы связаны с туризмом и сохранением исторического наследия. В Страконице – с промышленностью и социальными проблемами. В Тршебони – с экологией и курортной инфраструктурой.
– Plus у нас пока нет опыта работы с промышленными предприятиями, – добавила Анна Прохазкова. – В Таборе экономика диверсифицированная, конфликтов интересов было меньше. А что будет, когда рабочие завода захотят одного, а экологи – противоположного?
Эва задумалась. Это действительно была серьёзная проблема. Как обеспечить баланс интересов различных групп, не допустив доминирования одной над другими?
– Возможно, нужен модуль анализа заинтересованных сторон, – предложил Петр Новотны. – Система должна выявлять все группы, которых затрагивает конкретное решение, и обеспечивать их пропорциональное представительство.
– И механизм защиты меньшинств, – добавила Яна Махачкова. – Демократия большинства может стать тиранией большинства, если не защищать права тех, кто остался в меньшинстве.
Томаш слушал дискуссию с растущим пониманием сложности предстоящей задачи. Одно дело – создать систему для относительно гомогенного сообщества, другое – для общества с множественными и часто противоречивыми интересами.
– Начнём с Писека, – решил он. – Там ситуация ближе всего к табачной. Потом Тршебонь, и только в конце Страконице. Набираемся опыта постепенно.
Первые результаты появились через месяц, и они оказались неоднозначными.
В Писеке система заработала почти сразу. Местные жители с энтузиазмом включились в обсуждение туристических маршрутов, реставрации памятников, развития городской инфраструктуры. Особенно активными оказались владельцы гостиниц и ресторанов, которые впервые получили возможность напрямую влиять на городскую политику в сфере туризма.
– Удивительно, – рассказывал координатор проекта в Писеке Ян Покорны, – как быстро люди поняли связь между качеством городской среды и своими доходами. Предложения по благоустройству набирают поддержку намного быстрее, чем мы ожидали.
Тршебонь тоже показала хорошие результаты, хотя и с некоторыми особенностями. Курортный характер города привёл к тому, что в дискуссиях активно участвовали не только постоянные жители, но и регулярные гости, владельцы дач, сезонные работники.
– Возникла интересная проблема, – докладывала местный координатор Павла Черна. – Кого считать полноправным участником городского сообщества? Только тех, кто имеет постоянную регистрацию? Или всех, кто проводит в городе значительную часть времени и вкладывает деньги в местную экономику?
Это был принципиальный вопрос, который команда не предусматривала. В глобализированном мире границы местных сообществ становились всё более размытыми.
– Временно ограничиваем участие постоянными жителями, – решила Эва. – Но вопрос нужно проработать. Возможно, стоит создать разные уровни участия – полное и консультативное.
Но настоящие сложности начались в Страконице.
Промышленный город с его сложной социальной структурой оказался гораздо более трудным орехом. Первые же предложения – об экологических ограничениях для завода и повышении социальных стандартов – вызвали острую поляризацию.
– Рабочие боятся потерять места, управленцы – снижения прибыли, экологи требуют радикальных мер, – объяснял ситуацию местный координатор Михал Пространский. – И каждая группа пытается мобилизовать своих сторонников для голосования по принципу "кто кого".
Эва приехала в Страконице лично, чтобы разобраться в ситуации. Город действительно был расколот. На заводской проходной висели листовки против "экологического экстремизма", а в центре города – плакаты с требованиями "чистого воздуха для наших детей".
– Система не работает, когда интересы групп кардинально противоположны, – признала она на видеоконференции с командой. – Нужно что-то кардинально менять в подходе.
– А что, если попробовать метод deliberative polling? – предложила Анна. – Вместо простого голосования организовать структурированные дискуссии с участием экспертов?
– Объясни подробнее.
– Берём представительную выборку жителей – рабочих, инженеров, экологов, домохозяек, пенсионеров. Приглашаем экспертов по экономике, экологии, трудовому праву. И в течение выходных проводим intensive обучение и дискуссии. Люди получают объективную информацию, могут задать любые вопросы, выслушать разные точки зрения.
– И потом голосуют?
– Не только. Главное – они вырабатывают рекомендации, которые учитывают интересы всех сторон. А уже эти рекомендации выносятся на общегородское обсуждение.
Эксперимент в Страконице стал настоящим испытанием для команды. Первая deliberative панель прошла в местном культурном центре с участием шестидесяти человек, отобранных по принципу репрезентативности.
– Я никогда не думал, что экологические проблемы могут быть настолько сложными, – признался Властимил Новак, слесарь с мотоциклетного завода, после дня интенсивных лекций и дискуссий. – Оказывается, есть способы сделать production более чистым без закрытия предприятия.
– А я не знала, что современные рабочие места создать намного сложнее, чем просто запретить "вредное" производство, – ответила Катерина Прушкова, активистка экологического движения. – Нужно время и инвестиции для перехода на новые технологии.
К концу второго дня панель выработала комплексный план модернизации завода с поэтапным внедрением экологических стандартов, программой переподготовки кадров и созданием новых рабочих мест в сфере "зелёных" технологий.
– Самое важное, – сказал модератор дискуссии, профессор социологии из Карлова университета, – люди поняли, что их интересы не обязательно противоположны. Чистая экология и экономическое развитие могут дополнять друг друга.
Результаты страконицкого эксперимента оказались настолько впечатляющими, что привлекли внимание не только чешских, но и европейских экспертов. В город приезжали делегации из Германии, Австрии, Словакии.
– Мы наблюдаем рождение новой формы демократии, – заявил Клаус Миллер, политолог из Венского университета. – Это не просто технологическая инновация, а социальная evolution.
Но наибольшее впечатление произвели изменения в самих людях. Жители Страконице, которые ещё полгода назад делились на непримиримые лагеря, начали совместно работать над реализацией выработанного плана.
– Знаете, что самое удивительное? – рассказывала Прушкова журналистам. – Мы с Властимилом стали friends. А ведь раньше считали друг друга врагами. Оказалось, у нас общая цель – сделать город лучше для наших детей.
К концу года все три города показали положительные результаты, хотя и разными путями. Писек сосредоточился на развитии sustainable туризма. Тршебонь создал модель экологического курорта. Страконице начал transformation в центр "зелёной" промышленности.
– Интересная закономерность, – отмечала Анна, анализируя данные. – Система не навязывает единую модель развития, а помогает каждому сообществу найти свой путь, соответствующий местным условиям и потребностям.
– И что самое важное, – добавил Томаш, – люди перестали быть пассивными получателями решений. Они стали архитекторами собственного будущего.
Но успехи в регионах не остались незамеченными в Праге. В декабре Томаш получил приглашение на встречу с премьер-министром Стракой – встречу, которая определит судьбу всего проекта.
– Новак, расскажите мне, что происходит в Южной Богемии, – сказал премьер без предисловий, когда Томаш вошёл в его кабинет.
– Андрей, мы тестируем новые технологии citizen engagement.
– Не играйте словами, – перебил Страка. – Вы создаёте параллельную систему власти. И это меня беспокоит.
Томаш понял – игра в "цифровизацию услуг" закончилась. Пришло время открытого разговора о будущем демократии в Чехии.
– Андрей, посмотрите на результаты. Люди довольны, экономика растёт, социальные конфликты решаются мирно. Разве не к этому мы стремимся?
– К этому. Но не ценой разрушения существующих институтов власти.
– А что, если эти институты уже не справляются со своими функциями?
Страка встал, подошёл к окну с видом на Пражский град.
– Томаш, я понимаю ваши мотивы. Но представьте, что будет, если каждый регион начнёт экспериментировать с собственными формами управления. Где гарантия единства страны?
– А где гарантия, что без изменений страна не развалится от внутренних противоречий?
Это был ключевой вопрос, и оба собеседника это понимали. Разговор продолжался ещё час, но Томаш чувствовал – решение уже принято.
– У вас есть три месяца, – сказал наконец Страка. – Подготовьте детальный отчёт о результатах эксперимента и план интеграции в существующую правовую систему. Либо ваша инициатива получает официальный статус, либо прекращается.
Возвращаясь в офис, Томаш понимал – впереди самый сложный этап. Время экспериментов заканчивается. Начинается время принятия решений о будущем целой страны.
А в это время в Таборе, Писеке, Страконице и Тршебони тысячи людей продолжали каждый день принимать решения о своей жизни, не подозревая, что их судьба зависит от кабинетных переговоров в далёкой Праге.
Глава 6. Тёмные облака.
Известие об ультиматуме премьер-министра достигло команды в тот же вечер, когда Томаш вернулся из встречи со Стракой. Экстренное совещание в пражском офисе собралось уже после девяти, когда большинство сотрудников правительственных учреждений давно разошлись по домам.
– Три месяца, – повторила Эва, изучая записи Томаша. – И что конкретно он хочет увидеть в отчёте?
– Правовое обоснование, экономический анализ, план масштабирования на всю страну, – перечислил Томаш, расхаживая по конференц-залу. – И самое главное – гарантии того, что система не подорвёт основы государственного устройства.
Мартин Голубик поднял голову от ноутбука.
– А если мы не сможем дать такие гарантии? Потому что честно говоря, наша система действительно меняет баланс власти. И довольно радикально.
– Тогда нас закроют, – просто ответил Томаш.
Наступила тягостная пауза. Все понимали – впереди не просто подготовка документов, а борьба за выживание проекта, в который они вложили полтора года жизни.
– У нас есть козыри, – сказала наконец Анна Прохазкова. – Результаты говорят сами за себя. Экономический рост в пилотных городах на двадцать два процента выше среднего по стране. Уровень доверия к власти вырос в два раза. Социальная напряжённость снизилась на треть.
– Цифры – это хорошо, – согласился Томаш. – Но Страка боится не плохих результатов, а слишком хороших. Если люди привыкнут сами принимать решения, зачем им политические партии? Зачем депутаты? Зачем вообще традиционная система представительной демократии?
– А может, и правда не нужна? – неожиданно спросил Петр Новотны. – Если технологии позволяют гражданам участвовать в управлении напрямую, зачем сохранять устаревшие посреднические институты?
Эва покачала головой.
– Петр, ты говоришь как технократ. Но политика – не только про эффективность. Это про легитимность, традиции, социальную стабильность. Нельзя просто взять и отменить систему, которая складывалась столетиями.
– Даже если она больше не работает?
– Особенно если она больше не работает. Люди боятся перемен, особенно радикальных.
Томаш прислушивался к спору, понимая, что команда проговаривает вслух те же сомнения, которые мучили его самого. Где граница между необходимыми реформами и опасной революцией?
– Давайте сосредоточимся на том, что можем контролировать, – сказал он наконец. – У нас есть три месяца на подготовку убедительного досье. Нужно показать, что наша система не разрушает демократию, а развивает её.
– И как мы это докажем? – спросила Яна Махачкова.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.