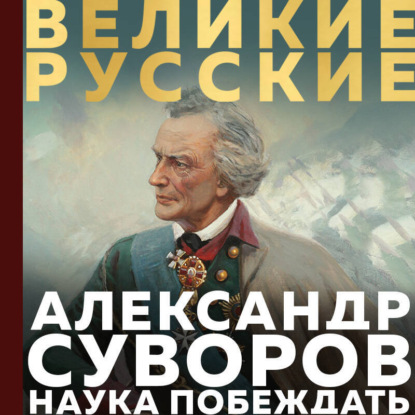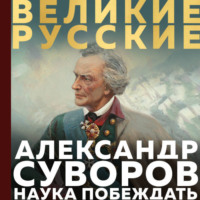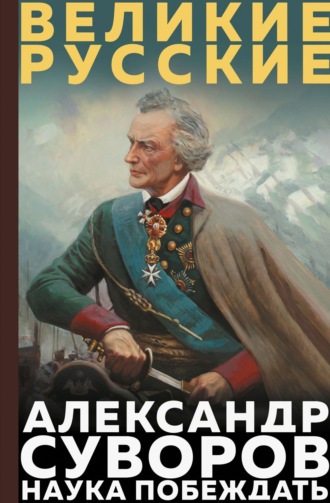
Полная версия
Наука побеждать
Суворов был в передних рядах, пеший (лошадь была ранена). Несколько турок бросились на него, но рядовой Шлиссельбургского полка Новиков одного застрелил, другого заколол, остальные бежали. Отступавшие гренадеры заметили Суворова; кто-то закричал: «Братцы, генерал остался впереди!», и все как один человек бросились снова на турок. Опять окопы один за другим начали переходить в наши руки. Но и этот успех был непродолжителен: огонь с суши и с судов нас отбросил.
К довершению Суворов был ранен картечью ниже сердца и потерял сознание. Казалось, все было потеряно. Но огонь турецкого флота был ослаблен дерзостью лейтенанта Ломбарда: турки приняли его галеру за брандер и быстро начали уходить, а Суворов скоро пришел в себя. «Я в третий раз обновил сражение, – писал он, – победа совершенная…»
Немедля были двинуты 4 роты из обоза и крепости и тут же прискакала за 36 верст легкоконная бригада, вызванная утром. Свежие войска пошли бурным порывом. Конница рубила в лоб, пехота штыками шла с севера, казаки с юга. Артиллерия картечью била почти в упор.

Спасение генерал-аншефа А. В. Суворова гренадером Степаном Новиковым в сражении при Кинбурне 1 октября 1787 года
В конце боя Суворов вновь ранен в руку пулей навылет, но он не покидал строя, хотя от потери крови и падал часто в обморок.
Из 6 тыс. высадившихся турок осталось живых 700 чел. Мы потеряли до 1 тыс. чел. убитыми и ранеными.
Победа под Кинбурном – следствие руководства боем Суворовым. Необыкновенная настойчивость Суворова, доблесть войск, общий подъем духа дали действительно то, что «наша Кинбурнска коса вскрыла первы чудеса», – особенно когда, по словам самого Суворова, турки были «молодцы – с такими я еще не дрался».
Начало войны Кинбурнской победой удручило турок, а Суворов получил орден Святого Андрея Первозванного. «Чувствительны нам раны ваши», – писала Екатерина. Потемкин не находил слов благодарить Суворова. Но плодами победы не воспользовались: войска не были в сборе; приближалась зима. Военные действия прекратились.
Зиму Суворов пробыл в Кинбурне, плохо поправляясь от ран.
К марту 1788 г. наши армии были почти готовы. Австрия, объявив войну, выставила помощь, но действия все не начинались. Только в июле Потемкин наконец медленно приступил к осаде Очакова. Осада, как всегда, затянулась, появились болезни. Суворов мучился, язвил Потемкина. «Не такими способами бивали мы поляков и турок, – говорил он, – одним глядением крепости не возьмешь. Послушались бы меня – давно Очаков был бы в наших руках».
Преследование вылазки турок без разрешения Потемкина осложнило дело. Потемкин послал офицера за объяснениями к Суворову, у которого в это время вынимали пулю из шеи. Суворов ответил:
«Я на камушке сижу,На Очаков я гляжу».После этого Суворову пришлось уехать в Кинбурн, где он слег. Лечение шло неудачно: произошел взрыв лаборатории, и Суворов был снова ранен в лицо, грудь, руку и ногу. Пришлось лечиться в Херсоне, а потом до следующего года – в Кременчуге.
Наконец после долгой томительной осады Очаков все же был взят 6 декабря приступом, а следующий год пришлось начать при менее благоприятных условиях. Швеция объявила войну. Польша тоже грозила разрывом. Но война в Турции 1789 г. началась удачно – Дерфельден[19] дважды разбил турок, и еще лучше пошли дела, когда в конце апреля он сдал дивизию Суворову, который получил ее, однако, лишь после личного обращения к Екатерине. Став у Бырлада, Суворов явился ближайшим соседом только что прибывших 18 тыс. австрийцев, принца Кобургского[20], у Аджуда.
Так как мы бездействовали, турки решили быстро двинуть на австрийцев к Фокшанам 30 тыс. Османа-паши. Принц просил Суворова о помощи. Суворов, оставив в Бырладе часть сил, выступил с 7 тыс. чел., известив принца запиской: «Иду, Суворов».
Пройдя за 28 часов 50 верст по дурной дороге, Суворов прибыл к австрийцам к 10 часам вечера 17 июня так неожиданно, что Кобург поверил, только когда сам увидел русских.
Весь день 18 июня пошел на наводку мостов через р. Тротуш, и наши хорошо отдохнули. Утром принц послал привет Суворову, прося свидания. Суворов ответил уклончиво. Второму посланному ответили, что Суворов Богу молится, третьему – Суворов спит. Позже Александр Васильевич говорил: «Мы все время провели бы в прениях дипломатических, тактических, энигматических; меня бы загоняли, а неприятель решил бы наш спор, разбив тактиков».

Штурм Очакова
В 11 часов Суворов послал Кобургу записку: «Войска выступают в 2 часа ночи тремя колоннами, среднюю составляют русские. Неприятеля атаковать всеми силами, не занимаясь мелкими поисками вправо и влево, чтобы на заре прибыть к р. Путне, которую перейти, продолжая атаку. Говорят, что перед нами турок тысяч 50, а другие 50 дальше. Жаль, что они не все вместе, лучше было бы покончить с ними разом».
Кобург согласился не без колебания. Но, во-первых, уже было некогда, а во-вторых, принц невольно подчинился Суворову, хотя и был старше.
Союзники выступили 19-го ночью. За р. Тротуш перестроились в две колонны: западная – австрийцы, восточная – наши. Впереди наших, чтобы скрыть прибытие их, шла австрийская конница Карачая, и остановки наши делали укрыто.
Утром 20-го продолжали идти к р. Путне, где были передовые войска турок. Главные силы их были в укрепленном лагере, у Фокшан. В 4 часа дня турки были сбиты за Путню, и союзники под проливным дождем навели мост. На рассвете 21-го Суворов подошел к Фокшанам.
Австрийцы построились в две линии, конница сзади, Суворов – в пять линий, конница впереди.
Турецкая конница окружила союзников, особенно Суворова. Однако испытанная в боях с турками пехота наша была несокрушима: движение продолжалось. На пути лежал густой лес, занятый турками. Суворов решил его обойти: австрийцам с запада, русским с востока. Турки толпами отступили в главный лагерь. Обойдя лес, Суворов пошел еще к востоку, болотистым камышом, чтобы выйти в бок турецкому лагерю; австрийцы продолжали движение в лоб.
С орудийного выстрела турки открыли сильную пальбу, но союзники, примкнув теперь друг к другу, ускоренно шли на врага. В 1 тыс. шагов от турок артиллерия их открыла огонь, а когда конница опрокинула турецкую конницу и часть пехоты, первая линия союзников под начальством Дерфельдена без выстрела, с музыкой и барабанным боем, бросилась в штыки.
Разбитые наголову войска Османа бежали на Рымник и Бузео. Легкие войска союзников преследовали до ночи. Через несколько недель Осман собрал едва несколько сотен человек.
После победы, которая обошлась всего в 400 чел. убитых и раненых, Суворов и Кобургский впервые увиделись; они обнялись, поцеловались. Принц, совершенно очарованный умом и обращением Суворова, сделался на всю жизнь его другом.
Фокшанский разгром был неожиданен и для нас, и для турок. Мы наступать еще не думали, но вдруг слабые силы Суворова присоединяются к австрийцам, увлекают их и могучим ударом наносят врагу поражение. Турки, шедшие раздавить одиноких австрийцев, вдруг сами терпят поражение. Без сомнения, было чему подивиться. Екатерина заплакала от радости и при милостивом рескрипте пожаловала Суворову брильянтовый крест и звезду к ордену Святого Андрея Первозванного. Австрийский император прислал при рескрипте дорогую табакерку с брильянтовым шифром. Общественное мнение России выражало громко восторг. Суворов был везде героем. Турки начали суеверно бояться Суворова, маленький «Топал-паша» сделался пугалом: в его руках стали побеждать и австрийцы!
Победа вновь была одержана искусством и силой духа. Непреклонная воля Суворова увлекла на победный путь и новых союзников. Полная его уверенность в победе заставила и их смотреть на дело уверенно и спокойно.
Искусство проявилось во встречном ударе, который разрушил наступательный замысел турок.
Оно же видно в напряженности действий, в глубоком построении с умелым сочетанием родов войск, в громовом ударе на поле сражения, в преследовании. Но главное было то, что «Фокшаны зажмут рот тем, кои рассказывали, что мы с австрийцами в несогласии», – как сказала Екатерина.
Однако и плодами Фокшанской победы мы не воспользовались: мы снова не были готовы к общему наступлению. Суворов ушел обратно в Бырлад, Кобург остался в Фокшанах. Великий визирь вновь решил наступать. Искусно обманув Потемкина, он лично с 90–100 тыс. чел. устремился на Рымник, чтобы разбить Кобурга.
Суворов, зорко следя, разгадал намерение турок и перешел из Бырлада в Пуцени, чтобы легче было помочь австрийцам. 6 сентября ночью он получил известие о движении против Кобурга великого визиря и просьбу о помощи. Суворов, не убежденный еще пока, остался наблюдать Галац, но усилил разведку. 7-го явился второй гонец: громадные силы турок всего в 16 верстах от принца. Теперь Суворов уже повел свои 7 тыс. чел. и, сделав за двое суток более 75 верст по отвратительным дорогам при ливне и наводке ряда мостов, 10 сентября соединился с австрийцами[21]. Турки меж тем, остановясь в укрепленном лагере на р. Рымник, ограничились стычками.
Решение Суворова было немедленно напасть самому. Принц не соглашался, говорил, что несоразмерность сил слишком велика, русские войска очень изнурены, позиция турок очень сильна и т. п. Суворов раздраженно отвечал: «Численное превосходство неприятеля, его укрепленная позиция, потому-то именно мы и должны атаковать его, чтобы не дать ему времени укрепиться еще сильнее. Впрочем, делайте что хотите, а я один с моими русскими войсками намерен атаковать турок и тоже один надеюсь разбить их».
Принцу оставалось исполнить волю Суворова. Суворов сделал разведку с высокого дерева. У д. Тыргу-Кукули стояло до 15 тыс. чел. Западная опушка леса Крынгу-Мейлор была занята 40 тыс. чел., в длинном ретраншаменте с засеками, обеспеченными топкими болотами. Остальные 35–45 тыс. турок находились в укрепленном лагере у Мартинешти на р. Рымник.
Вернувшись, Суворов предписал союзникам начать движение ночью; австрийским войскам – на лес Крынгу-Мейлор, против крыла и середины неприятеля; на себя Суворов брал самую трудную задачу: двинуться боком, на д. Тыргу-Кукули, зайти правым плечом на д. Богчу и одновременно с австрийцами ударить на главные силы турок. Связь между русскими и австрийцами обеспечивала конница Карачая. Построение наше – как и под Фокшанами, причем оно указано и австрийцам.
Преодолев (2 батальона фанагорийских гренадер) крутой овраг и отбив яростные удары конницы турок, наши овладели передовым лагерем.
Принц Кобургский двигался на лес Крынгу-Мейлор. Великий визирь приказал всей коннице, свыше 20 тыс. коней, ударить в большой промежуток между союзниками.
Три раза бросались турки, но безуспешно. Наконец они дали тыл и, преследуемые союзной конницей, понеслись на д. Богчу. Заняв д. Тыргу-Кукули, Суворов быстро зашел на восток., на д. Богчу. В 3–4 верстах от леса, пользуясь близостью колодцев, он дал истомленным войскам напиться. Через полчаса, тщательно осмотревшись, вновь пошел на д. Богчу. В это время прибыл великий визирь со свежей конницей.
Земля задрожала от топота 40 тыс. коней, и турецкая конница окружила со всех сторон. Но соперничая с русскими в храбрости, австрийцы мужественно встретили противника, а конница Карачая рубила турок с боков и тыла.
Между тем Суворов овладел д. Богча. Увидев у себя в тылу русских, турки отхлынули частью к лесу, частью к Мартинешти.
Австрийцы скоро примкнули к нашему северному крылу. Теперь предстояло овладеть лесом Крынгу-Мейлор с 40 тыс. бывших еще в бою янычар. Мгновенным наитием свыше, дабы поразить турок неожиданностью и меньше терпеть от огня, Суворов пустил вперед всю конницу и за ней бегом пехоту. В 300 саженях от турок союзная конница через пехоту бешено понеслась на укрепления. Стародубский карабинерный полк с полковником Миклашевским первым перескочил окопы, за ним влетели австрийские гусары. Казаки и арнауты ворвались с тыла. Не успели янычары прийти в себя, как союзная пехота с криками «ура!» и «да здравствует Франц!» хлынула вслед за конницей. Началась страшная резня. Турки бросились к Мартинешти. Великий визирь пытался остановить их, читал Коран, умолял, грозил, стрелял из орудий – ничто не помогло. Только наступившая ночь спасла остатки беглецов.

Гравюра с портретом А. В. Суворова, выполненная в 1870 году, на которой в центре символически изображена победа при Рымнике
Победа была полная. 15–20 тыс. чел. лежали на поле битвы, остальные рассеялись. Великий визирь собрал впоследствии только 15 тыс. чел. Потери победителей не превосходили 600–800 чел.[22] Добыча огромная.
Суворов получил достоинство графа Рымникского, Георгия I степени, брильянтовый эполет, богатую шпагу и ценный перстень; австрийский император возвел его в звание графа Священной Римской империи.
Силой воли Суворов увлек колеблющегося союзника. Так же, как под Фокшанами, решил он действовать самым страшным оружием: неожиданностью. Быстрое соединение его с австрийцами было столь невероятно, что визирь приказал отрубить голову лазутчику, донесшему, что Суворов 7 сентября в Пуцени.
Турки были разбросаны в трех местах, и визирь, ожидавший подкреплений против австрийцев, был разбит по частям.
Боковое движение с 7 тыс., имея впереди 15 тыс. противника, а сбоку 40 тыс., выполнено с поразительным искусством. Распоряжение об ударе конницей на укрепления Крынгу-Мейлорского леса относится к числу блистательнейших вдохновений гения.
Сила духа Суворова, его уверенность в победе передались и в войска, которые проявили необыкновенный подъем, особенно русские. Один из австрийских офицеров писал: «Как ни хороши наши люди, но русские еще превосходят их в некоторых отношениях; почти невероятно то, что о них рассказывают. Нет меры их повиновению, верности, решимости и храбрости. Они стоят, как стена, и все должно пасть перед ними». Рымникская победа была столь потрясающа, что, перейди и мы в общее наступление, война кончилась бы в том же году. Суворов и дал смелый совет похода за Дунай, но Потемкин продолжал бездействовать, и зима опять прервала поход до будущего года.
Все же Потемкин решил до зимы овладеть крепостями по Нижнему Дунаю. Корпус Меллер-Закомельского[23] (10 тыс.) был собран на Нижнем Дунае; корпус Суворова (12 тыс.) – у Галаца. Кроме того, в устье Дуная прибыли содействовать сухопутным войскам гребные суда Дерибаса[24]. В середине октября Меллер-Закомельский овладел Килией, а в половине ноября Дерибас овладел Тульчей и Исакчей.
Вторично (в первый раз в 1787 г.) войска наши подошли к Измаилу и под начальством трех равновластных начальников – Меллера-Закомельского, Потемкина (племянника князя) и Дерибаса – приступили к осаде.
Измаил к 1790 г. был сильно укреплен иностранными инженерами. Вооружение крепости состояло из 200 крупных орудий. Сам город высился уступами; прочные дворцы, гостиницы, мечети способствовали обороне. Число защитников достигало 35 тыс. чел., из них 8 тыс. конницы, 17 тыс. янычар, несколько тысяч татар.
Защитник Измаила, старый, поседелый в боях Айдозли Мехмет-паша, был человеком решительным, твердым и дельным. Султан обещал, что, если Измаил будет взят, оставшиеся в живых защитники будут казнены. Боевых припасов было в изобилии, продовольствия – на 1,5 месяца.
Таким образом, Измаил был крепостью сильной, хорошо вооруженной и снабженной, с многочисленным храбрым гарнизоном и с опытным решительным вождем.
Скорое овладение Измаилом было весьма трудно. Между тем оно было крайне необходимо политически, дабы заключить мир с Турцией, пока враждебные нам державы не успели помочь ей, для чего и надо было закончить войну сильным ударом. Между тем дела наши шли плохо. В сырое, холодное время в войсках появились болезни, не хватало довольствия. 26 ноября на военном совете решено, ввиду неодолимости Измаила, отойти на зиму подальше. Некоторые части уже приводили в исполнение это решение. Дерибас объявил, что уходит к Суворову, в Галац, как вдруг пришло известие, что начальником войск, собранных под Измаилом, Потемкин назначил Суворова. Известие это, как искра, облетело войска. Все ожили, все знали, чем кончится дело: «Как только прибудет Суворов, крепость возьмут штурмом», – говорили все, особенно Дерибас, иначе и не называвший Суворова, как героем.
Суворов отправил из Галаца под Измаил фанагорийских гренадеров, 200 казаков, 1 тыс. арнаутов и 150 охотников Апшеронского полка, 30 лестниц и 1 тыс. фашин, продовольственные запасы, а сам поскакал вперед.
Рано утром 2 декабря, пройдя более чем 100 верст, к Измаилу подъехали два всадника, забрызганные грязью: это были Суворов и казак, который в маленьком узелке вез все имущество вождя. Раздалась приветственная пальба, общая радость распространилась в войсках: в маленьком, сморщенном старичке явилась сама победа!
Суворов немедленно приступил к делу. Ежедневно выезжал с офицерами на разведку, изучая внимательно каждую складку местности, давал указания, где и как вести войска на приступ. Были заложены батареи с целью убедить турок в желании вести осаду. Дерибас выстроил сильные батареи на острове Сулин и учил войска посадке на суда. В лагере были выстроены валы и рвы наподобие измаильских, и ночью под руководством Суворова войска учились преодолевать их; готовились лестницы, фашины.
7 декабря Суворов послал в Измаил письмо Потемкина сдать крепость и к письму приложил свою записку: «Сераскиру, старшинам и всему обществу: я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля; первые мои выстрелы – уже неволя; штурм – смерть. Что ставлю вам на рассмотрение». Сераскир ответил письмом, прося перемирия на 10 дней, а на словах прибавил: «Скорее Дунай остановится в своем течении и небо обрушится на землю, чем сдастся Измаил».
Суворов понял ответ сераскира и сообщил, что, вопреки обыкновению, дает на размышление еще 24 часа. В назначенный срок ответа не было, и на 11-е число назначено взять Измаил. 24 часа пошли на завершение, наряду с вещественной, небывалой по умению и объему, и нравственной подготовки.
Суворов ходил по бивакам, говорил с солдатами и офицерами, вспоминал прежние победы, указывал на трудности овладения Измаилом. «Видите ли эту крепость, – говорил он, указывая на Измаил, – стены ее высоки, рвы глубоки, а все-таки нам нужно взять ее. Матушка царица приказала, и мы должны ее слушаться». – «С тобой все возьмем!» – восторженно отвечали люди. Гордый ответ сераскира Суворов приказал прочесть в каждой роте, чтобы еще больше поднять жажду победы. Казакам с короткими пиками внушалось, что они – оружие, наиболее в тесноте способное к действиям.
Но надо было повлиять и на генералов. Еще несколько дней назад они считали взятие Измаила невозможным и решили отступать. Суворов созвал военный совет и произнес воодушевляющую речь, указывая, что уже два раза русские безуспешно подступали к Измаилу, третья неудача немыслима, надо или взять крепость, или умереть. «Я решился овладеть крепостью либо погибнуть под ее стенами», – закончил он.
Общее быстрое постановление было – приступ. Участь Измаила была решена.
Для внезапности Суворов избрал удар ночью. Кроме того, ожидая упорного сопротивления турок, он хотел иметь возможно больше светлой части дня (рассвет в Измаиле в 7 часов утра, закат в 4 часа дня). Для одновременности были установлены ракеты. По третьей, в 5 часов ночи, войскам идти. Но во избежание недоразумений приказано всем начальникам сверить свои часы, а чтобы «басурманы» не догадались, что означают ракеты, приказано было пускать их в лагере каждую ночь.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Его предок Юда Сувор перебрался в Москву из Швеции при Симеоне Гордом.
2
Абрам (Ибрагим) Петрович Ганнибал (ок. 1696–1781) – военачальник и военный инженер, генерал-аншеф, прадед А. С. Пушкина.
3
Во время войны Суворов командовал несколько месяцев Тверским драгунским полком, из-за болезни его командира, и Новоархангельским.
4
Имеется в виду пригород польской столицы.
5
Ганс Генрих (Иван Иванович) фон Веймарн (1718/1722–1792) – военачальник остзейского происхождения, генерал-поручик, командующий войсками в войне с Барской конфедерацией.
6
Михаил Казимир Огинский (1729–1800) – государственный и военный деятель Речи Посполитой; был известен также как поэт, писатель, композитор и драматург.
7
Александр Ильич Бибиков (1729–1774) – государственный и военный деятель, генерал-аншеф; главнокомандующий войсками в борьбе с польскими конфедератами и при подавлении Пугачевского восстания.
8
Шарль Жозеф Гиацинт дю У, маркиз де Виомениль (1734–1827) – французский военачальник, маршал Франции.
9
Потери русских – 26 убитых и 42 раненых. Потери турок, по реляции Суворова, – 1,5 тыс. чел.
10
16 (27) января 1774 г. А. В. Суворов женился на Варваре Ивановне Прозоровской. Брак был несчастливым и сложным. Суворов подозревал жену в супружеской измене, начал бракоразводный процесс, но в 1779 г. под давлением высокопоставленных лиц приостановил его. Однако спустя пять лет Александр Васильевич полностью разорвал отношения с супругой.
11
Михаил Федотович Каменский (1738–1809) – военачальник и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, генерал-губернатор Санкт-Петербурга в 1802 г.
12
То есть встречным.
13
Александр Васильевич говорил про Каменского: «Каменский военное дело знает, да оно его не знает, а Суворов военного дела не знает, зато оно его знает».
14
Иван Иванович Михельсон (1740–1807) – военачальник и государственный деятель, генерал от кавалерии.
15
Иосиф II (1741–1790) – император Священной Римской империи в 1765–1790 гг. (до конца 1780-х гг. был соправителем своей матери Марии Терезии), один из наиболее ярких представителей эпохи просвещенного абсолютизма.
16
Первую попытку овладеть Кинбурном турки предприняли еще 14 сентября, но были отброшены с большим уроном.
17
Гласис – пологая земляная насыпь перед наружным рвом крепости.
18
Иван Григорьевич фон Рек (?–1795) – военный и государственный деятель, генерал-поручик.
19
Отто Вильгельм (Вилим Христофорович) Дерфельден (Отто Вильгельм фон Дерфельден; 1735/1737–1819) – военачальник и государственный деятель, генерал-аншеф.
20
Фридрих Иосиф Кобург-Заальфельд (1737–1817) – герцог Саксонский, австрийский военачальник. В 1789 г. вместе с Суворовым одержал победы при Фокшанах и Рымнике, за которые был награжден чином фельдмаршала. Участник войн с Пруссией, Турцией и Францией.
21
Соединенные силы союзников насчитывали 23 960 чел., из которых 7042 русских.
22
Потери русских, по реляции, – 45 убитых и 133 раненых.
23
Иван Иванович Меллер (с 1789 г. – Меллер-Закомельский; 1725–1790) – военачальник, генерал-аншеф, герой Русско-турецкой войны 1787–1791 гг.
24
Иосиф (Осип) Михайлович Дерибас (Хосе де Рибас; 1751–1800) – государственный и военный деятель испанского происхождения, основатель Одессы.