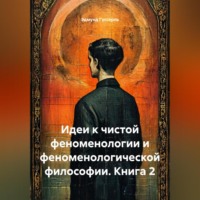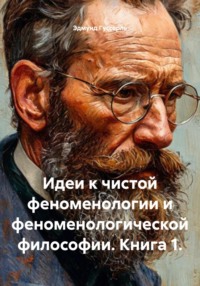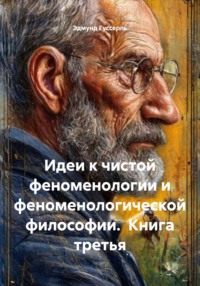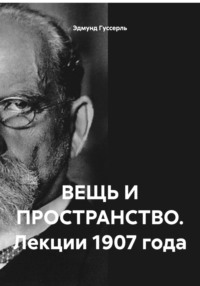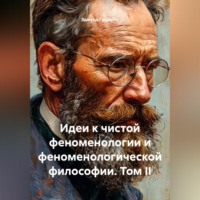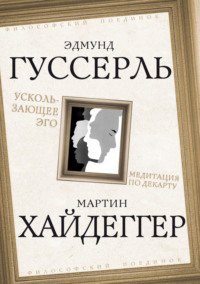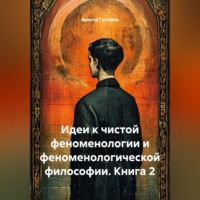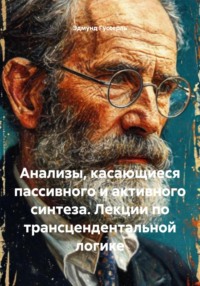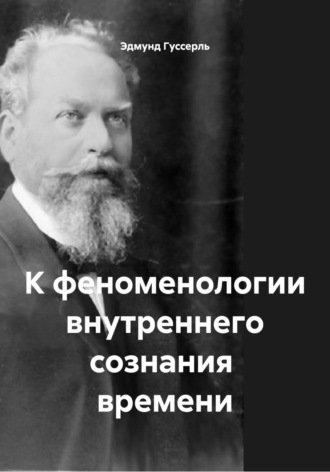
Полная версия
К феноменологии внутреннего сознания времени
Другой вопрос, конечно, следующий: Было ли являющееся реальным?
Ожидание, с другой стороны, находит свое осуществление в восприятии. Существенно для ожидаемого, что оно есть нечто, что будет воспринято. Более того, очевидно, что когда ожидаемое происходит, то есть становится настоящим, само состояние ожидания завершается; если будущее стало настоящим, то настоящее стало относительно прошлым. Это также относится к интенциям, направленным на окружение. Они также осуществляются через актуальность импрессионального переживания.
Несмотря на эти различия, интуиция, принадлежащая ожиданию, является столь же оригинальной и уникальной, как и интуиция прошлого.
§ 27. Память о настоящем.В сфере интуиции внешнего времени и внешней объективности необходимо учитывать еще один тип непосредственной репродуктивной интуиции временных объектов (разумеется, все наши объяснения ограничивались непосредственной интуицией временных объектов, оставляя в стороне опосредованные, или неинтуитивные, ожидания и воспоминания).
На основе прежних восприятий, описаний или иным образом я могу представить себе нечто существующее сейчас, не имея его перед собой «в оригинале». В первом случае у меня действительно есть воспоминание, но я наделяю remembered (вспоминаемое) длительностью вплоть до актуального теперь – без внутренне запомненных «явлений» для этой длительности. «Образ памяти» служит мне, но я не полагаю вспоминаемое как вспоминаемое; я не помещаю объект внутренней памяти в присущую ему длительность. Мы полагаем длящееся так, как оно предстает в этом явлении, полагаем являющееся теперь и каждое новое теперь и так далее – но не полагаем его как «прошедшее».
Мы знаем, что «прошедшее» в случае памяти не означает, будто в акте воспоминания мы создаем образ того, что существовало ранее, или конструируем нечто подобное. Напротив, мы просто полагаем являющееся, интуируемое – то, что, в соответствии со своей временностью, может быть интуировано лишь во временных модусах. А тому, что таким образом является, мы придаем – в модусе памяти, через интенцию, направленную на окружение явления – позицию относительно актуального теперь.
Точно так же в случае репрезентации существующего-но-отсутствующего мы должны спросить об интенциях, направленных на окружение интуиции. Здесь, естественно, эти интенции совершенно иного рода: они не связаны с актуальным теперь через непрерывный ряд внутренних явлений, которые были бы целиком полагаемы.
Конечно, эта репродуктивная явленность не лишена контекста. Предполагается, что там является нечто длящееся, что было и есть сейчас, и будет. Таким образом, я «могу» так или иначе пойти и увидеть эту вещь, еще застать ее; затем вернуться и в повторяющихся «возможных» рядах явлений воспроизвести интуицию. И если бы я отправился некоторое время назад и пришел туда (а это предписанная возможность, которой соответствуют возможные ряды явлений), то сейчас я имел бы эту интуицию как перцептивную, и так далее.
Таким образом, репродуктивно являющееся не характеризуется как внутренне-импрессионально бывшее, а являющееся – как воспринятое в своей временной длительности. Но здесь тоже существует отношение к hic et nunc (здесь и сейчас), и явление несет определенный полагающий характер: оно принадлежит к определенной связи явлений (причем явлений, которые были бы «полагающими», позиционными на всем протяжении). И по отношению к последним оно обладает мотивирующим характером: интенции, направленные на окружение, всегда образуют ореол интенций для самих «возможных» явлений.
То же самое относится к интуиции длящегося бытия, которое я сейчас воспринимаю, полагаю как существовавшее ранее – без того, чтобы я воспринимал его ранее или теперь вспоминал, – и полагаю как нечто, что будет существовать в будущем.
§ 28. Сохранение объективной интенции в ретенционной модификации.Нередко случается, что пока ретенция только что прошедшего еще жива, возникает репродуктивный образ этого: но, естественно, образ вещи так, как она была дана в точке теперь. Мы как бы повторяем только что пережитое. Эта внутренняя регенерация в репрезентации соотносит репродуктивное теперь с теперь, еще живым в свежей памяти, и здесь происходит сознание тождества, выявляющее идентичность одного и другого.
(Этот феномен также показывает, что, помимо интуитивной части, сфере первичной памяти принадлежит пустая часть, простирающаяся гораздо дальше. Пока мы еще удерживаем нечто прошлое в свежей – хотя и пустой – памяти, одновременно может возникнуть «образ» этого.)
Универсальный и фундаментально существенный факт состоит в том, что каждое теперь, погружаясь в прошлое, сохраняет свою строгую идентичность. Феноменологически выражаясь: сознание теперь, конституированное на основе материала «А», непрерывно преобразуется в сознание прошлого, в то время как одновременно строится ever new (все новое) сознание теперь. В этой трансформации модифицирующееся сознание сохраняет свою объективную интенцию (что принадлежит к сущности временного сознания).
Каждое изначальное временное поле содержит непрерывную модификацию относительно акт-характеристик, конституирующих поле. Эту модификацию нельзя понимать так, будто в ряду аппрегензий, принадлежащих фазе объекта (т.е. ряда, начинающегося с возникновения аппрегензий как now-полагающих и нисходящего в последнее доступное феноменальное прошлое), происходит непрерывная модификация объективной интенции. Напротив: объективная интенция остается абсолютно той же и идентичной.
Тем не менее, существует феноменальное «схождение на нет» – не только в отношении аппрегентных содержаний, которые угасают (определенный спуск от высшей точки ощущения в теперь к точке незаметности). Момент теперь характеризуется прежде всего как новое. Теперь, только что погрузившееся в прошлое, уже не ново, а то, что новое оттеснило. В этом быть-оттесненным лежит изменение.
Но хотя оттесненное утратило характеристику теперь, оно остается абсолютно неизменным в своей объективной интенции – интенции, направленной на индивидуальную объективность (а именно, интуитивной интенции). В этом отношении, следовательно, не представляется никакого изменения.
Однако здесь необходимо уточнить, что означает «сохранение объективной интенции». Полная аппрегензия объекта включает два компонента:
1) один конституирует объект относительно его вневременных определений;
2) другой производит временную позицию – быть-теперь, быть-прошедшим и т.д.
Объект как временной материал, как нечто, обладающее временной позицией и протяженностью, как длящееся или изменяющееся, как сейчас-сущее и затем-бывшее, возникает исключительно из объективации аппрегентных содержаний – а значит, в случае чувственных объектов, из объективации чувственных содержаний.
При этом мы не упускаем из виду, что эти содержания сами являются временными объектами, что они производятся в последовательности как континуум пра-импрессий и ретенций, и что эти временные абрисы данных ощущения имеют значение для временных определений конституируемых через них объектов. Но в своем качестве репрезентантов качеств физической вещи (поскольку речь идет о чистом «что» этих качеств) их временной характер не играет роли.
Аппрегентные данные, схватываемые вневременно, конституируют объект в его специфическом составе – и пока этот состав сохраняется, мы уже можем говорить о тождестве.
Но когда ранее мы говорили о сохранении отношения к чему-то объективному, это означало, что объект остается сохранен не только в своем составе, но и как индивидуальный объект – а значит, как временно определенный объект, который отступает во времени вместе со своей временной определенностью.
Это отступание есть изначальная феноменологическая модификация сознания, через которую образуется все увеличивающаяся дистанция по отношению к актуальному теперь, постоянно заново конституируемому. Эта растущая дистанция возникает благодаря непрерывному ряду изменений, удаляющихся от актуального теперь.
§31. Первичное впечатление и объективная индивидуальная временная точкаНа этом этапе мы, кажется, приходим к антиномии: объект, уходя в прошлое, постоянно меняет свое положение во времени, и в то же время, уходя в прошлое, он должен сохранять свое временное положение. В действительности объект первичной памяти, который непрерывно отодвигается назад, вовсе не меняет своего места во времени, а лишь изменяет свое расстояние от актуально настоящего «теперь». И это происходит потому, что актуально настоящее «теперь» принимается за постоянно новую объективную временную точку, тогда как прошедший временной момент остается тем, чем он является. Теперь возникает вопрос: как, перед лицом феномена постоянного изменения временного сознания, возникает сознание объективного времени и, прежде всего, идентичных временных позиций? Этот вопрос тесно связан с вопросом о конституировании объективности индивидуальных временных объектов и событий: вся объективация осуществляется во временном сознании; без прояснения идентичности временной позиции не может быть прояснена и идентичность объекта во времени.
Изложенная более подробно, проблема такова. Фазы «теперь», принадлежащие восприятию, непрерывно подвергаются модификации; они не сохраняются в неизменном виде – они утекают. В этом процессе конституируется то, что мы называем «погружением в прошлое». Тон звучит сейчас и сразу же уходит в прошлое – он, тот же самый тон, погружается в прошлое. Это касается тона в каждой из его фаз, а значит, и тона в целом. Погружение в прошлое до некоторой степени кажется понятным благодаря нашим размышлениям до этого момента. Но как происходит, что, несмотря на уход тона в прошлое, мы тем не менее утверждаем, что ему принадлежит фиксированная позиция во времени, что временные точки и временные протяженности могут быть идентифицированы в повторяющихся актах, как показал наш анализ репродуктивного сознания? Тон и каждая временная точка в единстве длящегося тона действительно имеют свою абсолютно фиксированную позицию в «объективном» (пусть даже имманентном) времени. Время фиксировано, и в то же время время течет. В потоке времени, в непрерывном погружении в прошлое, конституируется не текущее, абсолютно фиксированное, идентичное, объективное время. В этом и состоит проблема.
Для начала давайте рассмотрим более внимательно ситуацию с тем же самым тоном, уходящим в прошлое. Почему мы говорим о том же самом тоне, который уходит в прошлое? Тон строится во временном потоке посредством своих фаз. Мы знаем, что каждая фаза (например, фаза, принадлежащая актуально настоящему «теперь»), подчиняясь закону непрерывной модификации, тем не менее должна являться, так сказать, объективно той же самой, той же самой тональной точкой, поскольку здесь представлен континуум аппрегенции, управляемый идентичностью смысла и существующий в непрерывном совпадении. Совпадение касается вневременного материала, который сохраняется в потоке именно как идентичность объективного смысла. Это верно для каждой фазы «теперь». Но каждое новое «теперь» именно ново и феноменологически характеризуется как новое. Даже если тон продолжается настолько неизменно, что малейшее изменение нам незаметно, то есть даже если каждое новое «теперь» обладает в точности тем же самым содержанием аппрегенции в отношении качества, интенсивности и т. д. и несет в себе ту же самую аппрегенцию – даже если все это так, тем не менее проявляется изначальное различие, принадлежащее новому измерению. И это различие является непрерывным. Рассматривая феноменологически, только точка «теперь» характеризуется как актуально настоящее «теперь», то есть как новое; предшествующая точка «теперь» предстает как подвергшаяся своей модификации, точка перед ней – своей дальнейшей модификации и так далее. Этот континуум модификаций в содержаниях аппрегенции и построенных на них аппрегенциях создает сознание протяженности тона вместе с непрерывным уходом в прошлое уже протяженного.
Но как, перед лицом феномена непрерывного изменения временного сознания, возникает сознание объективного времени и, прежде всего, сознание идентичной временной позиции и временной протяженности? Ответ таков: это происходит благодаря тому, что, в противовес потоку процесса отодвигания во времени, в противовес потоку модификаций сознания, объект, который предстает отодвинутым, аппрецептивно сохраняется в абсолютной идентичности – а именно, объект вместе с полаганием как «это», которое он претерпел в точке «теперь». Непрерывная модификация аппрегенции в непрерывном потоке не затрагивает её «как что», её смысл. Модификация не интендирует новый объект и не новую фазу объекта. Она не дает новых временных точек, но постоянно тот же самый объект с теми же временными точками. Каждое актуально настоящее «теперь» создает новую временную точку, потому что оно создает новый объект, точнее, новую объектную точку, которая удерживается в потоке модификации как одна и та же индивидуальная объектная точка. А континуум, в котором новое «теперь» конституируется снова и снова, показывает нам, что речь идет не о «новизне» как таковой, а о непрерывном моменте индивидуации, в котором временная позиция имеет свое происхождение. Сущность модифицирующего потока такова, что эта временная позиция предстает передо мной как идентичная и с необходимостью идентичная. «Теперь» как актуально настоящее «теперь» – это данность настоящего временной позиции. Когда феномен отступает в прошлое, «теперь» приобретает характеристику бытия прошлым «теперь»; но оно остается тем же самым «теперь», только предстает передо мной как прошлое по отношению к текущему актуальному и временно новому «теперь».
Таким образом, объективация временного объекта основывается на следующих моментах: содержание ощущения, принадлежащее разным актуально настоящим точкам «теперь» объекта, может оставаться абсолютно неизменным по качеству, но все же не обладать истинной идентичностью в этой идентичности содержания, как бы далеко она ни простиралась. То же самое ощущение сейчас и в другом «теперь» обладает различием – а именно, феноменологическим различием, – которое соответствует абсолютной временной позиции; это различие является первоисточником индивидуальности «этого», а тем самым и абсолютной временной позиции. Каждая фаза модификации имеет «по сути» то же самое качественное содержание и тот же временной момент, хотя и модифицированный; и она имеет их в себе таким образом, что благодаря им становится возможным последующее схватывание идентичности. Это относится к стороне ощущения или, коррелятивно, к стороне основы аппрегенции. Разные моменты поддерживают разные стороны аппрегенции, собственно объективации. Одна сторона объективации находит свою основу чисто в качественном содержании материала ощущения: это дает временной материал – например, тон. Этот материал сохраняется как идентичный в потоке модификации прошлого. Вторая сторона объективации происходит из аппрегенции репрезентантов временных позиций. Эта аппрегенция также непрерывно поддерживается в потоке модификации.
Подведем итог: тональная точка в своей абсолютной индивидуальности удерживается в своей материи и своей временной позиции, и именно последняя впервые конституирует индивидуальность. Добавим к этому, наконец, аппрегенцию, которая по сути принадлежит модификации и которая, удерживая протяженную объективность с её имманентным абсолютным временем, позволяет проявиться непрерывному процессу отодвигания в прошлое. Таким образом, в нашем примере с тоном каждая точка «теперь» постоянно нового звучания и затухания имеет свой материал ощущения и свою объективирующую аппрегенцию. Тон предстает передо мной как звук ударенной струны скрипки. Если мы снова отвлечемся от объективирующей аппрегенции и посмотрим чисто на материал ощущения, то, что касается его материи, это постоянно тон c, его тембр и качество неизменны, его интенсивность, возможно, колеблется и так далее. Это содержание, понимаемое чисто как содержание ощущения, лежащее в основе объективирующей апперцепции, является протяженным – то есть каждое «теперь» имеет свое содержание ощущения, и каждое другое «теперь» имеет индивидуально иное содержание, даже если содержание материально точно такое же. Абсолютно тот же самый c сейчас и позже совершенно одинаков с точки зрения ощущения, но c сейчас индивидуально отличается от c позже.
Что здесь означает «индивидуальное»? Это изначальная временная форма ощущения или, как я могу также выразиться, временная форма изначального ощущения, здесь – ощущения, принадлежащего текущей точке «теперь» и только ей. Но сама точка «теперь» должна, строго говоря, определяться через изначальное ощущение, так что высказанное утверждение следует воспринимать лишь как указание на то, что подразумевается. Впечатление, в отличие от фантазмы, отличается характером изначальности.
Теперь внутри впечатления нам следует особо выделить первичное впечатление, которому противостоит континуум модификаций в первичном мемориальном сознании. Первичное впечатление есть нечто абсолютно немодифицированное, первоисточник всего дальнейшего сознания и бытия. Первичное впечатление имеет своим содержанием то, что означает слово «теперь», взятое в самом строгом смысле. Каждое новое «теперь» есть содержание нового первичного впечатления. Все новые первичные впечатления непрерывно вспыхивают с новой материей, то той же самой, то изменяющейся. Что отличает первичное впечатление от первичного впечатления, так это индивидуализирующий момент впечатления изначальной временной позиции, который принципиально отличается от качества и других материальных моментов содержания ощущения. Момент изначальной временной позиции, конечно, сам по себе ничто; индивидуация – это ничто в дополнение к тому, что имеет индивидуацию. Вся точка «теперь», все изначальное впечатление претерпевает модификацию прошлого; и только посредством этой модификации мы исчерпываем полное понятие «теперь», поскольку оно является относительным понятием и отсылает к «прошлому», так же как «прошлое» отсылает к «теперь». Эта модификация затрагивает прежде всего ощущение, не отменяя его универсального импрессионального характера. Она модифицирует все содержание первичного впечатления как в отношении его материи, так и в отношении его временной позиции, но модифицирует именно в том смысле, в каком это делает модификация фантазии; то есть модифицирует всецело, но не изменяет интенциональную сущность (все содержание).
Таким образом, материя – та же самая материя, временная позиция – та же самая временная позиция, изменился лишь модус данности: это данность прошлого. Объективирующая аппрегенция, следовательно, основывается на этом материале ощущения. Даже если мы смотрим чисто на содержания ощущения (отвлекаясь от трансцендентных апперцепций, которые, возможно, на них основываются), мы осуществляем апперцепцию: «временной поток», длительность тогда оказывается в нашем поле зрения как своего рода объективность. Объективность предполагает сознание единства, сознание идентичности. Здесь мы схватываем содержание каждого первичного ощущения как оно-само. Первичное впечатление дает тональную точку-индивидуум, и этот индивидуум идентично тот же самый в потоке модификации прошлого: аппрегенция, относящаяся к этой точке, пребывает в непрерывном совпадении в модификации прошлого, и идентичность индивидуума есть eo ipso идентичность временной позиции. Непрерывное возникновение все новых первичных впечатлений, схватываемых как индивидуальные точки, снова и снова дает новые и разные временные позиции. Континуум дает континуум временных позиций. Таким образом, в потоке модификации прошлого передо мной предстает непрерывный отрезок времени, наполненный звуком, но таким образом, что только одна его точка дана через первичное впечатление, а оттуда временные позиции непрерывно проявляются в разных степенях модификации, уходя в прошлое.
Каждое воспринимаемое время воспринимается как прошлое, заканчивающееся в настоящем. А настоящее есть предел. Всякая аппрегенция, как бы трансцендентна она ни была, связана этим законом. Если мы воспринимаем стаю птиц или отряд кавалерии на галопе и тому подобное, мы находим в субстрате ощущения описанные различия: все новые первичные ощущения, несущие с собой характеристику, определяющую их временную позицию и вызывающую их индивидуацию; и, с другой стороны, те же модусы в аппрегенции. Именно таким образом нечто объективное само – полет птиц – предстает как изначально данное в точке «теперь», но как полностью данное в континууме прошлого, заканчивающегося в «теперь» и непрерывно заканчивающегося во все новом «теперь», в то время как то, что непрерывно предшествовало, отступает все дальше в континуум прошлого. Являющееся событие постоянно обладает идентичной абсолютной временной ценностью. По мере того как его прошедшая часть отодвигается все дальше в прошлое, событие отодвигается в прошлое вместе со своими абсолютными временными позициями и, соответственно, со всей своей временной протяженностью: то есть одно и то же событие с той же абсолютной временной протяженностью непрерывно предстает (пока оно вообще предстает) как идентично то же самое, за исключением того, что форма его данности иная. С другой стороны, в живой исходной точке бытия, в «теперь», одновременно возникает все новое первичное бытие, по отношению к которому расстояние временных точек события от актуально настоящего «теперь» непрерывно увеличивается; и, следовательно, возникает явление погружения назад, удаления.
§ 32. Роль воспроизведения в конституировании единого объективного времени.Однако, даже при сохранении индивидуальности временных точек по мере их погружения в прошлое, мы еще не получаем сознания единого, однородного, объективного времени. В формировании этого сознания важную роль играет репродуктивная память (как интуитивная память, так и память в форме пустых интенций). Благодаря репродуктивной памяти каждая точка, отодвинутая в прошлое, может быть – и притом неоднократно – сделана нулевой точкой временной интуиции. Воспроизводится прежнее временное поле, в котором отодвинутое сейчас было настоящим; и воспроизведенное «теперь» отождествляется с временной точкой, еще живущей в свежей памяти: индивидуальная интенция остается той же самой.
Воспроизведенное временное поле простирается дальше, чем актуально presentное поле. Если мы возьмем точку прошлого в этом поле, то воспроизведение, частично совпадая с временным полем, в котором эта точка была «теперь», позволяет осуществить дальнейший регресс в прошлое – и так далее. Очевидно, этот процесс следует представлять как потенциально бесконечный, хотя на практике реальная память быстро иссякает.
Ясно, что каждая временная точка имеет свое «до» и «после», и что точки и протяженные отрезки, находящиеся «до», не могут сжиматься подобно приближению к математическому пределу, как, например, предел интенсивности. Если бы такой предел существовал, ему соответствовало бы «теперь», которому ничего не предшествовало, а это, очевидно, невозможно. «Теперь» всегда и по сути является граничной точкой временного протяжения. И очевидно, что все это протяжение должно погружаться назад, сохраняя при этом всю свою величину и полную индивидуальность.
Конечно, фантазия и воспроизведение не позволяют расширить интуицию времени в том смысле, что протяженность временных оттенков, действительно данных в одновременном сознании, увеличилась бы. В этом отношении может возникнуть вопрос: как в этих последовательно сменяющих друг друга временных полях возникает единое объективное время с его единственным фиксированным порядком? Ответ дает непрерывное совпадение временных полей, которое на самом деле не является простым упорядочиванием их во временной последовательности. Совпадающие части индивидуально отождествляются в ходе их интуитивного и непрерывного регресса в прошлое.
Допустим, мы движемся в прошлое от любой актуально переживаемой временной точки – то есть от точки, изначально данной в временном поле восприятия, или от точки, воспроизводящей отдаленное прошлое – и продвигаемся, так сказать, вдоль фиксированной цепи связанных объективностей, которые снова и снова отождествляются. Как здесь устанавливается линейный порядок, согласно которому любой временной отрезок, даже воспроизведенный без непрерывности с актуально presentным временным полем, должен быть частью единой цепи, продолжающейся вплоть до актуального «теперь»? Даже любое произвольно сфантазированное время подчиняется требованию, что оно должно существовать как отрезок в единственном объективном времени, если мы хотим мыслить его как актуальное время (то есть как время некоторого временного объекта).
§ 33. Некоторые априорные временные законы.Очевидно, это априорное требование основано на значимости фундаментальных временных очевидностей, которые могут быть непосредственно схвачены и прояснены на основе интуиций данных временных положений.
Если сначала мы сравним два первичных ощущения – или, коррелятивно, два первичных данных – оба актуально являющиеся в одном сознании как первичные данные, как «теперь», то они различаются между собой по своему содержанию. Однако они одновременны: они имеют идентичное абсолютное временное положение; они оба суть «теперь»; и в одном и том же «теперь» они необходимо имеют одинаковое значение с точки зрения их временной позиции. У них одинаковая форма индивидуации; они оба конституируются в импрессиях, принадлежащих одному и тому же импрессиональному уровню. Они модифицируются в этой идентичности и сохраняют ее в модификации прошлого.