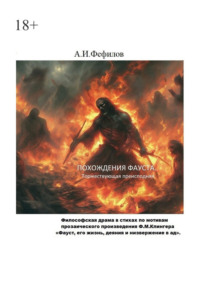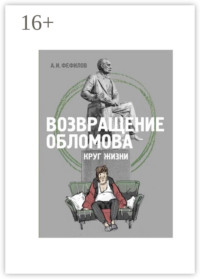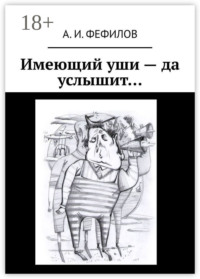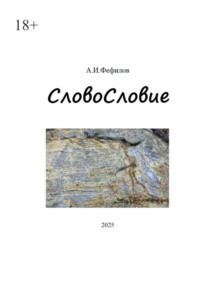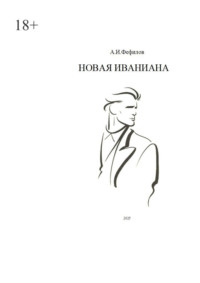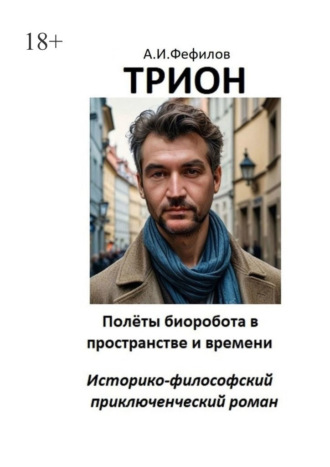
Полная версия
Трион. Полёты биоробота в пространстве и времени. Историко-философский приключенческий роман
«Гомункул разбился сознательно! Ему не хватало любви – значит, ему недоставало свободы!»
«Зато у тебя её предостаточно!»
«Глебушка, ты не дерзи! Вопрос о достаточности спорный. О свободе поговорим на досуге! И не забывай, кто из нас первый в нашем мозговом пространстве! Сейчас нужно думать о необходимости. Свобода и осознание необходимости – это как ни крути, разные вещи. Это ж надо было „Мавру“ такую чепуху сформулировать… До рождения главного основоположника остаётся ровно 61 год… Однако я становлюсь болтливым! Это всё последствия удара по голове!»

Тяжёлые мысли
Гёте уладил дело с размещением русского студента в гостинице. Глебу предоставили небольшую комнатушку на первом этаже. «Сдобную булочку в юбочке» увидеть не довелось. Ссылаясь на позднее время, хозяин организовал сухой ужин с бутербродами. Скромную немецкую еду принесли на подносе в номер.
Трион погрустнел:
– Что и требовалось доказать!
Глеб удивился:
– О чём это ты? О пище что ли?
Трион продолжил внутренний диалог:
– Нет, Глебушка, не о пище! Мрачные мысли прилетели в мою черепную коробку… Похоже нас уже никогда больше возвращать в 21-й век не будут. Мы находимся в прошлом вот уже год с лишним. Последняя попытка возвратить нас была предпринята сегодня. Чем она закончилась, ты знаешь. Если время нашего пребывания здесь, исчисляется годом, то там, на родине наших отцов-создателей, оно составляет, если я не ошибаюсь… Подожди, сейчас прокручу все заложенные во мне телепортационные расчёты… Там течение времени должно измеряться минимум пропорцией один к двадцати… Хотя это неточно. Это значит, что там прошло двадцать с лишним лет! Маловероятно, что наши отцы-создатели ещё живы… А нашей любимой Сабрине сейчас где-то сорок пять лет!
Глеб вмешался в размышления Триона:
– Насколько я понимаю, нас телепортировали квантовым способом?..
Трион удивился:
– Ой ли? Ты полагаешь, что нас сканировали вплоть до субатомных частиц, а потом собрали здесь с помощью той же машины времени? Нет! Это происходило иначе. Нас заслали через четвёртое измерение, не расчленяя на кванты. Если даже у них остался наш скан… Не забывай, что машина времени, по всей вероятности, приказала долго жить. Пусть даже они восстановят старый вариант, в лучшем случае они продолжат эксперимент и запустят второго Триона – нашего двойника. А мы пройдём в отчётах, как неудачный эксперимент! В худшем случае – о возвращении речи вестись не будет.
Глеба данное рассуждение возмутило:
– Не должно такого быть! Сабрина не позволит… Пока она жива, она будет пытаться вернуть нас!
Трион съязвил:
– Эх ты, человекоподобный! Блажен, кто верует… А кто такая Сабрина? Пойдёт ли она по стопам отца? Допустят ли её до экспериментов? Вопросов, Глебушка, больше, чем ответов. Мы с тобой пребываем сейчас в информационном вакууме. Мы продукт прошлого. Будущее нам не подвластно… Хотя прошедшее настоящее мы ещё удерживаем за хвост. Надо подумать, что делать дальше. А пока предлагаю, отключить когнитивную систему на период сна. Биоробот тоже должен отдыхать! Мы с тобой не холодная машина какая-то… Голова трещит… Что-то мне дурно… Не знаю, как ты, а я, кажется, теряю сознание…

Небытие
Утром Гёте проснулся от стука в дверь. На пороге комнаты стоял хозяин гостиницы:
– Ваш гость не открывает… Горничная не могла к нему войти. Как это понимать? Вчера я краем уха слышал Ваш разговор. У него, кажется, были проблемы… Ранение в голову или что-то… Нужно было сообщить в полицию. Боюсь, нас ожидают неприятности.
Однако кастеляну удалось довольно скоро открыть запасным ключом дверь в номер «русского гостя». Гёте и хозяин отеля обнаружили его лежащим в беспамятстве на полу рядом с кроватью.
Гёте был встревожен: «Не хватало мне неприятностей на свою голову»:
– Его вчера по дороге сюда ударили по голове. Кто-то напал на него сзади. Оглушили и забрали деньги. Я решил помочь ему. Я даже не знаю его имени. Он был в себе и чувствовал себя вполне здоровым. Конечно, это последствия удара. Надо вызвать лекаря. Я оплачу.
Хозяин отеля недовольно пробурчал:
– Не только лекаря, но и полицию.
Через полчаса прибыли полицейский и лекарь. Каждый вынес свой вердикт:
– Полная потеря сознания. Требуется серьёзное лечение, иначе он отдаст Богу душу. Его необходимо срочно доставить в амбуланц!
– При нем нет документа, удостоверяющего личность.
– Он из России. Нужно оповестить русское представительство!
***
Прибывший в монастырскую больницу лейпцигский представитель русского чрезвычайного посланника в Дрездене князя А. М. Белосельского увидев закутанного в дерюгу больного, бредившего на немецком языке, сначала усомнился в его «русскости». Когда сопровождающие его люди, осмотрели студенческий мундир, лежащий в изголовье больного, они предположили, что это, должно быть, питомец гофмейстера Бокума, наставника русских студентов в Лейпциге. Однако майор Бокум, явившийся по приказу доверенного лица князя, заявил, что видит этого «студента» в первый раз, и что таковой в его списках не должен значиться. Хотя, что касается мундира, то в таких серых суконках на самом деле «щеголяют» только русские студенты.
Когда больной заговорил в бреду на русском языке, сомнения у присутствующих улетучились. Монах, ухаживающий в отделении за больными, сообщил, что господин, доставивший сюда больного, сказал, что это, по-видимому, какой-то странствующий студент, ему не знакомый, который намеревался поступить на учёбу в Лейпцигский университет, но которого ограбили уличные бандиты, ударив его чем-то тяжёлым по голове, когда тот пешком добирался до отеля. Монах поведал – господин сообщил также, что пострадавший в начале был в себе, и ничто не предвещало беды; однако утром его нашли в беспамятстве, лежащим на полу. Монах также уточнил, что богатый господин заплатил за уход и пребывание больного в монастырском лазарете на неделю вперёд и сделал это исключительно из соображений милосердия.
В ходе разбирательств представитель русского посланника понял, что немецкая полиция не захотела вникать в суть дела и «сплавила» пострадавшего на поруки российских соотечественников. Соотечественники, однако, не торопились и решили дождаться выздоровления «русского студента», а потом, после проведения процедуры опознания, в случае подтверждения предположений, переправить его в Россию.
Монах, присматривавший за больными, не отходил от безымянного русского. Он знал, что в таком состоянии больной долго не протянет. Отвары трав, прописанные ему лекарем, не помогали. Монаху было искренне жаль несчастного. Ухаживая за ним, монах замечал, как постепенно слабеет тело больного, как тот иногда лежит молча с открытыми глазами, но не реагирует на движение руки около своего лица. В минуты бреда больной как будто разговаривал с близким ему человеком. Отрывочные фразы бредившего были для монаха непонятны, даже тогда, когда произносились на немецком языке. Тщательно выговариваемые слова обладали какой-то невероятной притягательностью, так что монах не мог не выслушивать и силился понять, о ком и о чём идёт речь:
– Предел жизни… Мы с тобой не подлежим восстановлению… Отцы предупреждали… Шестое чувство было ослаблено в нас изначально. Недоработка… Существенная.
– Мы созданы как инструмент, а не как субъектная личность! Не успел я очеловечиться… Не могу прийти в себя, после того как вышел… Что значит «потерял сознание»? Как можно потерять то, что не принадлежит нам, ни тебе, ни мне? «Мне пришла мысль в голову» – как изволите это понимать? Нет своих мыслей? Тогда приходят они откуда?
– У человека рождающегося нет личного прошлого, как у нас с тобой. Прошлое, которое у нас в голове, оно не наше, не личностное. Оно чужое… и искусственное.
Однако, когда больной выдавил из себя фразу «Кто он, который ведёт меня? Это он говорит моими устами. Я выполняю его волю…», церковный прислужник всё понял и невольно выкрикнул:
– Бог нас ведёт! Бог говорит в нас!
От громких слов монаха больной вздрогнул и очнулся:
– Где я?..
Глаза монаха засияли. На лице его расплылась блаженная улыбка:
– Раб божий, ты в монастырской больнице. Бог милостив! Возрадуйся!
Он размочил ломоть хлеба в тёплой воде и начал кормить больного, приговаривая:
– Ты свой хлеб ещё не весь съел! Тебе ещё жить да жить. Бог не принял твою душу. Божью милость надо заслужить.
Больной принимал пищу с трудом. Он всё время молчал. Потом погрузился в глубокий сон.

Замужество
Работы по восстановлению «машины времени» (МВ) завершились месяц назад. Однако новые конструкторы медлили с её запуском. Старший научный сотрудник, Михаил Захаров, уже известный специалист в области биоинженерии, телепортации, в одном из отделов лаборатории которого работала Сабрина, не спешил докладывать начальству о результатах.
Сабрина ушла в работу с головой, вникала во все тонкости создания биоробототехники по сохранившимся старым, «отцовским» разработкам. М. Захаров сосредоточился на проблеме обнаружения телепортированного объекта в пространстве прошлого и создание условий для его возвращения. Он утверждал, что в биоструктуре Триона механизмы телепортивной связи могли быть повреждены в результате аварии и последующей неуправляемой телепортации. И если структура обратной связи не самовосстановится, то надежды на возвращение Триона, даже если он будет обнаружен телепортатором, маловероятны. Уповать на случайности не приходится.
Через год машину времени всё-таки запустили в обновлённом варианте. Было предпринято несколько попыток телепортации Триона, но всё безрезультатно. М. Захаров оказался прав. Можно было и не торопиться с запуском и рапортовать об успехах. Требуются существенные доработки. Необходимо научить машину времени объединять временные параметры, сводить разные временные эпохи к единой точке, что, по мнению М. Захарова, обеспечит линейное соприкосновение исходного и целевого пространств, и обеспечит переход субстанции в её исходное пространственно-временное состояние. При этом не обязательно, что сохранится прежний интеллект телепортируемого биоробота. Скорее всего, опыт, накопленный биороботом в период его неуправляемого перемещения в пространстве прошлого или даже будущего, сохранится. Хотя полная ассимиляция с изначальным интеллектом и не нужна. Во всяком случае – для науки. Что касается физической интериоризации, то здесь очень много проблем. Нужно знать, не произошли ли у биоробота какие-либо сдвиги на генетическом уровне во время его случайного, непланового путешествия в пространстве и времени вне настоящего. Работа затруднялась и тем, что финансирование лаборатории существенно сократили. Кроме того, государственные проекты были переориентированы на военные нужды.
Через два года Сабрина вышла замуж за разведённого Михаила Захарова. Бывшая жена покинула его «без слёз, без жертв, без муки». «Ты уже давно женат на своей науке. Ничто более не связывает нас. Детей у нас нет. Гуд бай, мой мальчик, гуд бай, мой миленький!».
Сабрина не мучала себя вопросом, почему она вышла замуж за Михаила. По любви? – Нет. Скорее – по симпатии. К тому же её подталкивал извечный женский страх, о котором когда-то ей говорила бабушка Еля – «остаться в девках на всю жизнь» или довольствоваться случайными связями. Ни то, ни другое её не устраивало. В конце концов, симпатия со временем перерастёт в любовь.
Незадолго до смерти бабушка Еля открыла Сабрине ещё одну семейную тайну. Это была даже не тайна, а сомнение:
– Ты, наверное, заметила, что твой отец ни капельки не походит на меня. Сначала мне показалось, когда в роддоме его принесли на первое кормление, что он вылитый Григорий. Потом это сходство улетучилось.
– Бабуля! Если у тебя есть сомнения, давай проведём генетическую экспертизу. Это сегодня делается просто.
– Нет-нет! Не хочу травмировать твоего отца подозрениями. Да и к чему это? Что, мне от этого станет лучше?
– Эх, бабуля-бабуля… Отец об этом и не узнает. Пробы слюны возьмут у тебя и у меня.
– А, это даст достоверный результат?
– Конечно! Куда ещё достовернее?
– А, если вдруг окажется, что…?
– Если окажется, то пострадаем от правды только мы с тобой.
Сабрина и бабушка Елена сдали анализ на генетическую экспертизу. Через неделю пришёл результат – «коэффициент родства – 0%».
Работа в Новосибирском научно-исследовательском институте захватила Сабрину с головой. Одна из её коллег по работе как-то сказала:
– Сабрина Александровна! Вы себя заживо спалите на работе. Надо Вам немножко отвлечься. Не хотите заняться конным спортом? Увлекательнейшая штука. Приходите к нам на ипподром. Научитесь общаться с лошадьми. Это Вам не помешает. Для разнообразия. Я, когда мчусь на лошади, испытываю удовольствие, близкое к сексуальному!
Сабрина согласилась и скоро новое хобби стало частью её жизни. Мало того, она стала ходить с коллегой-подругой на все конные соревнования. И даже иногда делала ставки. Муж Михаил высказывал своё недовольство: «Делать ставки на конный спорт – это угроза семейному кошельку!»
Сабрина успокоила мужа:
– Зачем нам лишние деньги? У нас и так всё есть. Пусть это будет мой добровольный взнос в конный спорт.
Михаил пошутил:
– А если ты выиграешь крупную сумму? Что будем делать с деньгами? Вкладывать в детей, которых у нас нет?
Сабрина улыбнулась:
– Поняла твой намёк…

Встреча с И. Кантом
Трион увидел себя идущим по какой-то аккуратно вымощенной улочке. «Где это я? Глеб, отзовись! Куда мы угодили?». Молчание. «Выходит, я один… Улетучился Глебушка. О, как трещит голова… И почему это я наблюдаю за своим шагающим телом со стороны? Спросить бы надо кого-нибудь, куда меня занесло… И куда это моё телесное воплощение так уверенно шагает? А-а-а, понятно. Это мой молчаливый двойник. Глебушка, остановись, послушай утробного биобратца. Молодец, не разучился повиноваться, безропотный ты мой! Вон, какой-то господин важно вышагивает тебе навстречу. Похоже немец… Я ему пару вопросиков задам твоими устами.
– Прошу прощения. Как называется этот городок?
Прохожий взметнул вопросительный взгляд:
– Странно! С кем имею честь?
– Да какая там честь… Странник я. Странствующий студиозус, если хотите. Заблудился я. Понимаете? Простите, как Вас по имени, если можно.
– Что за обращение, заблудший студиозус – «если хотите», «если можно»? Перед Вами Иммануил Кант!
– Боже мой! Ваше философское величество, господин Кант! Ординарный профессор по кафедре логики и метафизики в Кенигсбергском университете! Я в Кенигсберге! Как мне повезло! Первый встречный – и сразу знаменитый немецкий философ, который в письме на имя российской императрицы Елизаветы писал: «готов умереть в своей глубочайшей преданности Вам»! Там была Ваша подпись: «В. и. в. наивернейший раб Эммануэль Кант»
– Господин студент! Вы ведёте себя развязно по отношению к профессору! Кстати, откуда у Вас такие сведения?
– Простите, профессор! Я студент из России, и, можно сказать, приближённый ко двору императрицы Екатерины. Избалован светским воспитанием… Мне и самому неудобно… Кроме того, у меня обнаружились способности перемещаться во времени… Вас, как представителя субъективного идеализма, это не должно пугать.
– Ах, вот как!.. Конечно, всё зависит от нашей воли и сознания. Да… Мы тут стоим уже минут пять. Мне пора завершать прогулку…
Видно было, что великий философ обескуражен. Но Трион продолжил разговор:
– Знаю, знаю, господин Кант! По вам жители Кенигсберга сверяют часы. Ваша прогулка строго регламентирована по времени… Если позволите, я сопровожу Вас до дома.
– Не возражаю, господин русский студент… Не знаю Вашего имени…
– Моё имя – Григорий. Фамилия – Бобринский.
Какое-то время Трион и Кант шли молча. Потом философ прервал неловкое молчание:
– Господин Бобринский! Поскольку Вы, как выясняется, сведующий человек… Почему Ваша императрица вернула оккупированную русскими Пруссию обратно Фридриху Второму? Я действительно присягал русскому престолу, и вдруг… Впрочем, Вашей императрице присягнула вся наша университетская корпорация. Я тогда занимал скромную должность доцента.
– Простите за откровенность, но наша матушка не хотела вести дорогостоящую войну за Пруссию. К тому же она понимала в то время шаткость своих прав на престол… Вы, конечно, в курсе о дворцовом перевороте в России… Не буду распространяться, хотя это не секрет, да и нас никто не слышит.
– Да-да. Это интересно. Мы могли бы с Вами побеседовать у меня за чашкой кофе или по-русски за чашкой чая. Я позволю себе впервые за последние годы нарушить свой рабочий распорядок. К тому же солнце уже высоко и становится жарко.
– Понимаю, господин Кант! Потеря жидкости из организма в виде пота – это для Вас неприемлемо. Дом Ваш не обласкан женской заботой по той же причине – человек должен сохранять живительную влагу в своём организме и не расплёскивать её понапрасну.
Э. Кант недоверчиво взглянул на Триона:
– О! И это Вам известно?
Они вошли в просторный дом. Кант провёл Триона в свой кабинет, где было много книг, и предложил гостю сесть за столик, который стоял между двумя креслами у самого окна. Слуга принёс чай и какие-то сладости.
Трион с несколько наигранным восхищением произнёс вслух:
– Вот здесь и создавался Ваш эпохальный труд «Критика чистого разума»? Почему Вы так назвали свою философскую работу?
– Я разумел под этим не критику книг и существующих систем, а критику способности разума вообще в отношении всех знаний, к которым он может стремиться независимо от всякого опыта…
– Иными словами, мой разум знает a priori, что может произойти от совершения того или иного действия. У меня в этой связи возникает вопрос: А принадлежит ли этот чистый разум мне? Может быть, это разум Бога во мне?
– Вы так глубоко изучали мою философию? Поразительно!
– Изучал, если можно так выразиться. Скорее всего – усваивал. Ваши «антиномии» и многое другое… Больше всего мне симпатизирует Ваша концепция о «вещи в себе» и о «вещи для нас». Первая «вещь», которая «в себе», она непознаваема, поэтому потомки определили Вас в стан агностиков. Вторая «вещь», которая «для нас» – зависит от нашего практического сознания…
– Не совсем так, хотя в целом Вы понимаете мою философию достаточно адекватно… Человек – существо, ограниченное по природе. Поэтому познание неполно… Нет объекта без субъекта. Наше познание обусловлено и ограничено формами человеческого интеллекта. Объект это всего лишь явление в мировидении познающего субъекта. Вот откуда и «вещь в себе». Она не раскрывается для нас. Мы пытаемся проникнуть внутрь вещи и начинаем приписывать ей некую составляющую её сущность, которой она не обладает на самом деле. Восприятие обусловлено намерениями субъекта. В этом вся беда и наши страдания…
– Господин Кант! Вот я совершенно незнакомый Вам одушевлённый объект восприятия. Вы смотрите на меня и видите лишь некоторые представления обо мне, которые сложились в Вашем сознании за время нашего общения. Я не говорю, что я не существую для Вас. Потомки приклеили Вам ярлык субъективного идеалиста и с позиций воинствующего материализма исказили Ваше учение. Так, вот… Я воздействую на Вас – предстаю перед Вами, являю себя Вам. Вы ведь утверждаете, насколько я Вас правильно понял, что субъект являет себя в объекте…
– Вы всё верно поняли. Мы оба субъекта и проявляем себя друг в друге как в объектах. Но мы две «вещи в себе». Мы не раскрываемся, а лишь облекаемся в пелену несобственных понятий. Вокруг меня ареол Ваших представлений, а вокруг Вас – оболочка моих практических знаний о Вас. Пытаясь познать Вас, я навешиваю на Вас атрибуты, продукты моего интеллекта, которые могут и не отражать Вашу сущность. То же самое делаете Вы. И хотя Ваш понятийный арсенал, касающийся меня, намного богаче, чем мой, – я же Вас практически не знаю, а Вы знакомы с моими трудами – я формирую о Вас свое мнение. А именно: Вы – студент из России, невесть как оказавшийся здесь, и случайно встретившийся мне на пути…
Кант пристально посмотрел на Триона:
– Вы говорили о перемещении во времени… И о потомках… Странно… Вы человек из другого пространства? Я не верю в фантазии, но…
– Не буду утаивать. Я из будущего! А если уж совсем быть точным – я из двадцать первого века. Считаю, что благодаря Вашей философии учёные того мира, из которого я «выпал» в восемнадцатый век, нашли определение будущего человечества в Вашем «чистом разуме», в формах пространства и времени. И поняли, что будущее человека предопределено. Оно присутствует как в прошлом, так и в настоящем.
Кант задумался:
– Ваши представления о времени построены на принципах линейности и поступательности. Как будто прошлое переливается в настоящее, а настоящее – в будущее. Это обусловленный практикой взгляд на мир. Такое догматическое истолкование подтверждает мой тезис, что время всего лишь априорная форма восприятия, присущая рассудку изначально, т.е. не исходящая из опыта. Философы могут толковать время по-разному. Но все эти толкования будут субъективны. Можно ведь предположить, что для человека не существует ни прошлого, ни будущего, так как прошлое уже прошло, а будущее ещё не наступило. Настоящее же преходяще, оно мимолётно. Вот то, что мы с Вами только что обсуждали, является только условно настоящим, а, по сути, оно уже прошлое, так как мы его «пережили», оно осталось лишь в нашей памяти.
– Но я действительно прилетел из другого пространства и нахожусь в прошлом.
Кант улыбнулся:
– Это Вам только кажется, поскольку Вы находитесь в плену своих субъективных представлений. Перестаньте измерять время пространственными мерками, и всё станет намного понятнее…
Трион задумался, витая в своей энциклопедической памяти, потом снова заговорил:
– Удивительно! То, что Вы сказали, подтверждается языковыми примерами. Я нахожусь где? – В Кёнигсберге. А прилетел я сюда когда? – В мае. В последнем примере в пространственную грамматическую форму упаковано время. Без пространства нельзя осмыслить время даже в языке!
– Оригинально, молодой человек! Люди могут себя мыслить в пространстве и времени. Эти понятия даны человеческому рассудку изначально. Поэтому невозможно человеку объективно размыслить само пространство и время. Вы можете представить эти понятия в перспективе планетарной вселенной. Например, заявить, что время циклично и представляет собой кругооборот. Помните – Всё приходит на круги своя? В соответствии с эти взглядом, не только прошлое переходит в настоящее, а настоящее – в будущее. Но и будущее переходит в прошлое. Вот Вам подтверждение того, каким образом Вы оказались для Вас в прошлом, а для меня в настоящем. Ваше прошлое, из которого Вы прибыли – неизвестно каким образом – это для меня перспектива будущего. Всё относительно, потому что мы живём в иллюзиях субъективного мира. Жаль, что ничего нельзя поправить. И мои труды тоже… Они уже написаны здесь. Их, как Вы сказали, читают там… Откровенно говоря, Ваши слова о значении моей философии льстят моему самолюбию.
– Вы заслужили признание своими трудами. Ваш последователь Артур Шопенгауер…
– Кто-кто?
– Шопенгауер… Он ещё не родился… Какой сегодня год? – Извините это не столь важно. Так вот этот философ, блестяще интерпретируя Ваше учение, заявляет: «Мир – это я!»..
– Очень удачная формулировка. Я вижу в этом мире только то, что есть во мне. А во мне присутствуют мои субъективные представления об этом мире, т.е. то, что и как я понимаю, осознаю.
Трион оживился:
– Я понимаю это так: субъект заменяет внешний мир, миром, находящимся в нём самом. Это не противоречит миропониманию Аристотеля, в основе которого лежит понятие тождества. Мой и внешний мир сосуществуют и могут пересекаться.
Кант сосредоточился на мгновение:
– Что-то я такого у Аристотеля не припомню… Все его доступные мне труды у меня на полке… Он показал рукой в сторону огромной, через всю стену книжной полки.
Трион не стал вдаваться в детали:
– Человек не смог бы ориентироваться во внешнем мире, если бы полагался на свои субъективные ощущения. Значит эти ощущения, или представления – если хотите «идеи», по Платону – не столь уж субъективны. Человек живёт в оболочке объективного мира постольку, поскольку он воспринимает его объективно. Его понятия о «вещах для нас» постоянно совершенствуются, и он выходит за пределы своего субъективного опыта.