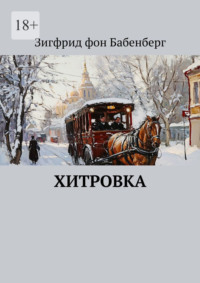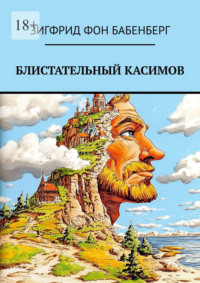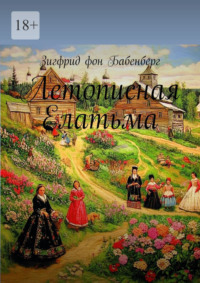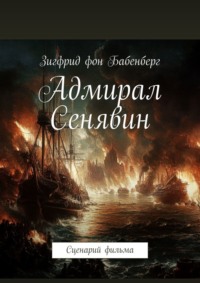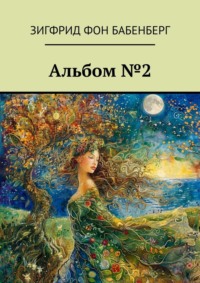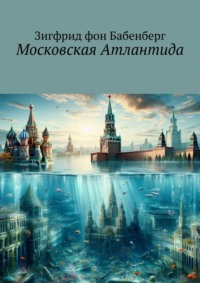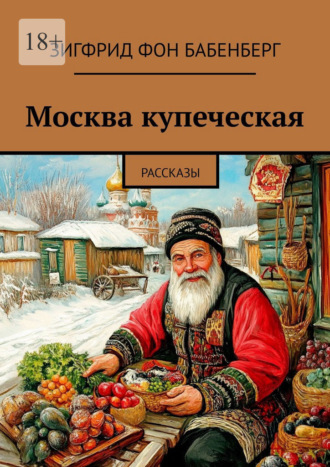
Полная версия
Москва купеческая. Рассказы

Москва купеческая
Рассказы
Зигфрид фон Бабенберг
© Зигфрид фон Бабенберг, 2025
ISBN 978-5-0067-6774-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
КАМЕННЫЕ ПАЛАТЫ И ТЁПЛЫЕ СЕРДЦА
Дорогой читатель,
Перед вами – не учебник по экономике, а приглашение в московский купеческий театр, где: – лабазы пахнут трюфелями и керосином, – счётные книги соседствуют с театральными афишами, – а «толстосумы» в поддевках творят историю, поплёвывая на усы интеллигентской спеси.
Эта книга родилась из парадокса: Москва звала купцов «тёмным царством», но именно они —
– вымостили улицы камнем вместо грязи, – возвели Художественный театр на деньги от «колониальных товаров», – а в голодные годы кормили города, когда казна опустела.
Вы встретите здесь: • Григория Елисеева, превратившего гастроном в дворец барокко – «чтобы мужик ананас потрогал и мир узнал»; • Константина Станиславского, которого клеймили стихами за «похороны Мельпомены», а он ответил «системой» гения; • Монахиню Иеремию (в миру – Евгению Лукашёву), чьи слёзы по семи детям стали елеем для тайного пострига в купеческом селе.
Почему их не любили? – Петербургский чиновник брезговал: «Торгаш!»; – Иностранные путешественники сочиняли небылицы о «врождённом жульничестве»; – Собственные писатели выводили их Кабанихами, забывая, что Савва Морозов спонсировал революцию тот самый Горький.
Но правда – в московском булыжнике, что помнит: – как купеческие обозы спасали город от чумы, – как в подвалах Елисеева рождалось русское шампанское, – как «бесчестный торгаш» Архип вернул англичанину три золотых, потому что «чужая копейка жжёт карман».
Эта книга – антидот против мифов. Она докажет:
«Русский купец – не Островский, не Уоллес, не Майерберг. Он – тот, кто, продавая сардины, строил театры. Кто, хороня детей, вышивал кресты на рубахах дочерям-учительницам. Кто отвечал на клевету не памфлетом – а честным словом и полновесным рублём».
Перелистните страницу – услышите звон елисеевских витрин, спор в клубе «аграриев» и тихий плач Иеремии над могилами. Москва купеческая ждёт. Она ещё пахнет апельсинами и совестью.
Редактор серии,
Зигфрид фон Бабенберг
Москва Купеческая
Звон Монет и Шум Пиров
Ступая по брусчатке Кузнецкого Моста, под сенью неожиданно густых лип («рощи», что наперекор Думе высадил упрямый хлеботорговец Елисеев – деньги-то свои!), ощущаешь дух старой купеческой Москвы. Не чопорный Петербург, а именно московское раздолье, где удаль, расчет и благочестие причудливо сплетались.
Где жили Боги Коммерции:
Особняки Морозовых громоздились в Замоскворечье и на ул. Воздвиженке. Рябушинские – на Пресне да на Мясницкой. Аренда в самом сердце, скажем, на Тверской? Пожалуйста!
Диалог в конторе Домажного ряда (управляющий – молодому приказчику): «У Подсосенском переулке, в доме Перлова, чаеторговца, освободилась анфилада. Шесть комнат, потолки лепные, печи изразцовые… Тысяч восемь в год просят. Не по карману нашему брату, а купцу первой гильдии – сущий пустяк! Вот ежели на Сретенке – там и за три тысячи сыскать можно, да уж вид попроще».
Приказчик (вздыхая): «Эх, Иван Потапыч, мечтается мне на Тверской пожить…»
Управляющий (усмехаясь): «На Тверской? Там графья да князья селятся! Али ты наследство тайное получил? Там и пятнадцати тысяч мало будет! Купец там – либо как Морозов Савва, театр себе выстроивший, либо с векселями в кармане, да с долгами по уши. Лучше в доходном доме угол сними, на Пятницкой, за пятьсот целковых – и то роскошь!»
Бани, Балы и «Золотая Молодежь»:
Помимо легендарных Сандунов, славились Центральные бани (на Неглинной) и Китаевские (на Сретенке). Конкуренция была жаркой!
Диалог двух купцов после бани (Центральные бани): *Купец 1 (пыхтя, растирая паром покрасневшее тело): «Ну что, Сидор Карпыч, как парилка? По-моему, нынче парок слабоват. Не то что в Сандунах! Там, сказывают, в «Императорском» номере мраморный бассейн с фонтаном!«*
Купец 2 (бодро окачиваясь из таза): «Брось, Терентий! Сандуны – для франтов да актеров этих. Шум, гам, цены – купцам не пристало. А здесь – чистота, парок духовитый, мужик свой, без затей. И полотенце пушистее! За свои пять гривен – самое то. Китаевские, конечно, дешевле, тридцать копеек, да уж больно тесно, простонародье…»
*Купец 1: «А сынок-то мой, Петруха, только в Сандуны и рвется! Говорит: «Там и бильярд, и ресторан, и видимость какая!» Видимость… Эх, молодежь!»*
Эта «золотая молодежь» – сыновья богатеев – задавала тон. Одни, как Щукин или Морозовы-младшие, картины собирали да театры спонсировали. Другие же:
Диалог в ресторане «Яръ» (два молодых купеческих сына, «кутилы»): Первый (развалившись, звоня бокалами): «Ну, Степка, что надумал? После устриц – в „Стрельну“? Там цыгане нынче – огонь! Али в клуб Английский? Бильярд перекинем?»
Второй (несколько навеселе): «Бильярд? Скучища! Поедем-ка лучше на бега! У меня тройка Орлова-Чесменского в закладе стоит… Дюжину шампанского на стол – и махнем!»
Первый (хохоча): «Отчаянный ты! Батя-то узнает – опять в лавку за прилавок поставит, „дурь выбивать“!»
Второй (махнув рукой): «Плевать! Деньги-то его – наши будут! Сегодня гуляем! Эй, половой! Еще „Клико“! И цыганский хор сюда! Пусть споют „Черные глаза“!»
Рестораны и Клубы – Дела и Тщеславие:
Дела вершились не только в конторах, но и за столиками «Эрмитажа» Оливье, «Праги», «Тестова». В Купеческом клубе (ныне Театр Ленком) или Английском клубе решались судьбы контрактов и браков.
Диалог за обедом в «Эрмитаже» (два солидных купца-промышленника): Купец 1 (отхлебывая уху): «Слушай, Гаврила Семеныч, насчет поставки сукна для армии… Твой мануфактурный двор мощности наращивает?»
Купец 2 (отрезая кусок стерляди):
– Наращиваем, Петр Алексеич, наращиваем. Новые станки из Манчестера ждем. А ты как с подрядами на железную дорогу? Слышал, Рябушинские метят?»
*Купец 1 (понижая голос):
– Метят… Но у нас, стариков, связи покрепче будут. Намедни у генерал-губернатора в Английском клубе в вист перекинулись… Дело, думаю, сладится. Главное – вовремя «благодарность» нужным людям оказать. Не то что нынешние молодчики – театр Мамонтова разорили своими «эстетическими затеями»! «*
*Купец 2 (кивая):
– То-то! Бизнес – он на расчете стоит, а не на оперетках этих. Хотя… (оглядывая роскошный зал) обед у Люсьена Оливье – это тоже дело! Партнеру приятно, статус виден. Закажи-ка лучше нам его фирменный салат да рябчиков «по-боярски»!»
Традиции и Перемены:
Старая патриархальность (бороды, кафтаны, строгий домострой) уходила. Молодые купцы брили бороды, носили европейские костюмы, жертвовали на искусство, заводили автомобили. Но фундамент оставался:
Диалог в доме у купчихи-старообрядки (разговор с дочерью): Купчиха (строго):
– Машенька! Опять в это «благотворительное общество» собралась? Модно стало? А молебен дома отстоять? Белье приданое досмотрела?»
Дочь (робко):
– Маменька, я ж сиротам помогаю… Платья старые раздаю…»
Купчиха:
– Богоугодное дело, не спорю. Да только смотри, чтоб без фамильярности! Ты – купеческая дочь! Помни, чья ты роду-племени! Не то что нонешние… вон, дочь Рябушинских, слышала, в университет ломится! Уму непостижимо! Барышня – и вдруг студентка! Позорище! Дом – ее университет. Муж да дети – ее диплом. И чтоб я больше не слыхала про эти ваши «собрания» без присмотру!»
Наследие в Камне:
Идя по улицам, видишь доходные дома – настоящие «фабрики квартир», приносившие баснословные доходы (как дом Строгановского училища на Рождественке). Видишь чудо техники – дом-холодильник Берга на углу Кузнецкого Моста и Рождественки, где глыбы льда хранили тонны провизии. Видишь театры, построенные на купеческие деньги – от Частной оперы Мамонтова до Художественного театра, которому помогали Морозовы.
Скандалы и Сплетни:
А уж истории ходили сочные! Как купеческий сын проиграл в карты целую лавку с товаром за одну ночь в «Яре». Как разорившийся фабрикант прыгнул с колокольни Ивана Великого. Как одна купчиха подала на развод, уличив мужа в связи с цыганкой из хора. Эти сплетни шептались на рынках, гремели в судах и услаждали посетителей все тех же бань и ресторанов.
Так и жила Москва купеческая – между богомольем и кутежом, лавкой и театром, строгим обычаем и дерзким новаторством, оставляя после себя не только капиталы, но и ту самую неповторимую архитектуру, дух и легенды, что до сих пор манят нас на экскурсии по ее старым улицам. Кажется, вот-вот завернет за угол нарядная колядка, запряженная орловским рысаком, с молодым купчиком, спешащим то ли в контору, то ли на свидание к актрисушке…
Лорд, Купец и Три Бочки Вранья
Подзаголовок: Почему Майерберг ошибался, а сапожник Архип был честнее всего «Таймс»
СЦЕНА 1. КАБАК «У ЯКИМА» (1676 год)
(Австрийский посол Майерберг тычет пером в свиток, сидя на бочке с квасом)
Майерберг (бормоча по-латыни):
– «Mercatores… fraudulent!» То бишь: «Купцы русские – плуты!»
Пьяный купец Сидор (подбоченясь):
– Барин, а коли я тебе за медный грош соболью шубу продам?
Майерберг (оживляясь):
– Якобы дешёво? Да!
Сидор (хохоча):
– Вот и врешь! Не продам. У нас на Руси первое правило: «Не обманешь – не продашь, а соврёшь – совесть зазрит!»
(Вываливается под стол. Майерберг пишет: «Подтверждаю: жульничают даже пьяные!»)
СЦЕНА 2. ГАСТРОНОМ ЕЛИСЕЕВА (1890 год)
(Англичанин Уоллес, корреспондент «Таймс», щупает ананас)
Уоллес (продавцу):
– Сколько?
Продавец Иван:
– Пять целковых, сэр!
Уоллес (в блокнот):
– «Типичная бесчестность! В Ливерпуле – вдвое дешевле!»
Иван (подмигивая):
– А пароход до Ливерпуля – сто целковых. Экономия!
(Вдруг из-за прилавка вылезает мальчишка-рассыльный:)
Мальчишка:
– Дядя Ваня! Барин забыл сдачу – три золотых!
Уоллес (роняя пенсне): – Но… зачем возвращать?!
Иван (пожимая плечами):
– Чужая копейка – жжет карман. Второе правило: «Обмануть можно, но стыдно».
СЦЕНА 3. ЛАВКА САПОЖНИКА АРХИПА (1910 год)
(Тот же Уоллес, постаревший, примеряет сапоги)
Архип:
– Десять рублей, барин! Кожа – сафьян, подмётка – вечная!
Уоллес (подозрительно): – Правда?
Архип (крестясь):
– Божусь – коровья. Но… ежели на дождь – промокнут. Уоллес (смеясь):
– Почему не солгал?
Архип (чешет затылок):
– Третье правило: «Врать немцу – грех. Он ж книжки про нас пишет!»
(Уоллес рвет старые заметки. Пишет телеграмму в Лондон:)
«СТОПТИРАЖ. РУССКИЙ КУПЕЦ ЧЕСТНЕЕ АНГЛИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ. ПРОДАЙТЕ АКЦИИ ИНДИИ – ПОКУПАЙТЕ РОССИЮ. УОЛЛЕС»
Мораль в стиле Посошкова:«Не ведись, купец, на крики,Что ты плут и что ты дикий.Лучше честно продай спички,Англичанам в рот затычки!»Дом-холодильник Берга!
Дом-холодильник купца Берга! Не дом, а чудо инженерной мысли XIX века на самом людном перекрестке Москвы. Забудьте про электрические «холодильники» – здесь царствовал вечный лед, а атланты держали не небо, а тонны столичного гастрономического шика! Читайте историю, пахнущую стружкой льда, дичью и трюфелями…
Сцена: Москва, 1889 год. Угол Кузнецкого Моста и Рождественки. Толпа глазеет на новостройку: 4 этажа в стиле «русский модерн» с витражами, лепниной… и гигантскими чугунными трубами, дымящими, как драконы.
Купец Сысой Прокофьич (толкая локтем приказчика): – Гляди-ка, Терентий! Франт Берг опять чудит! Говорят, ледяной дворец выстроил! Аль снежную бабу в палатах держать собрался?
Приказчик Терентий (втягивая воздух): – Не бабу, а прохладу, батюшка! Чуешь? Сквозь щели морозцем тянет! Слыхал я – подземные пещеры вырубил, да глыбы льда с Москвы-реки возами таскают! Для дичи заморской, трюфелей… да балыка астраханского!
Внутри: Царство Вечного Января
Вестибюль. Мрамор, дуб. Надпись золотом: «Складъ замороженныхъ товаровъ. А. А. Бергъ». За железной дверью – исполинская лестница вниз.
Смотритель Арсений (в тулупе и валенках, выдает посетителям тулупы):
– Не извольте, судари, без шубы! Внизу – как в Вологодской губернии на Крещенье! Минус 12 градусов по Реомюру держим! Ледяные стены – в три сажени толщиной!
Спуск. Гул шагов. Воздух сизый от холода. Гигантские сводчатые камеры, где на полках из лиственницы:
Горы окороков – вепрь, лось, медвежатина, инеем поросшие.
Батареи пузатых бочек – икра зернистая, кетовая, паюсная.
Ряды туш – рябчики, глухари, тетерева с застывшей кровью на клювах.
Ящики с «черными алмазами» – трюфели из Перигора!
Блистающие пирамиды – стерлядь, нельма, белорыбица – вмёрзшие в глыбы прозрачного льда!
Повар ресторана «Эрмитаж» (тычет тростью в стерлядь):
– *Вели, Арсений, энту стерлядину на возок грузить! Да гляди – жабры алые, лед чистый! А то графу Петру Александровичу подам – осерчает… как в прошлый раз, когда семга «с душком» пришла!
Арсений (строго):
– У насъ, сударь, не протухнетъ! Ледникъ вентилируемый – воздух гуляетъ! Сырость в дренаж уходит! Товар – яко в Сибири на зимнике!
Технология Чуда: Как это работало?
Ледозаготовка: Зимой крестьяне с Пивной (ныне Большой Пироговской) улицы пилили глыбы со льда Москвы-реки. Возы, обернутые рогожами, тащили их к Бергу.
«Начинка»: В подвалах складывали ледяные блоки между кирпичными стенами и деревянными перегородками. Соль + селитра (как в старинных мороженицах) усиливали холод.
Вентиляция: Чугунные трубы вытягивали теплый воздух наверх. Летом из них валил пар – москвичи шутили: «Берг пельмени варит на весь Кузнецкий Мост!»
Логистика: Лошади с ледяными «гривами» (иней от дыхания) вывозили товар. Термосы XIX века: ящики, выложенные пробкой и овчиной!
Кризис: Лед Тронулся! 1918 год. Дом реквизирован. Надпись: «Народный Холодильникъ». Комиссар в кожанке (тычет накладной): – Гражданин завсклад! Сию буржуазную стерлядь – в детдом №7! А трюфели… на экспорт! Для мировой революции!
Бывший смотритель Арсений (плача): – Да трюфели-то… без французского вина – как сапоги без сала! Дети их жевать не станут!
Через месяц. Лед тает. Вода хлещет по лестницам. В подвалах – запах тлена. Мальчишка-беспризорник (выбегает с окороком, покрытым плесенью): – *Ха! «Народный» холодильник! Теперь тут «народный» погребок с крысами! Берг-то смылся… а лед растаял, как царская власть!»
Дом Берга стоит и сегодня (Кузнецкий Мост, 19/5).
Атланты у входа уже не держат лед – лишь призраки былого величия.
В роскошных залах – офисы да магазины.
Но если приложить ухо к стене подвала… слышен скрежет ледяных пил да ржанье обмерзших лошадей. И чудится крик:
– Осторожно! Лед бьется! Несите соль – осетрина оттаивать начинает!
Финал с иронией: Так и стоит дом-парадокс: снаружи – архитектурный изыск, внутри когда-то – пещера Снежной Королевы для ветчины. Москвичи любили, ругали, но объедались его запасами. И пусть техника ушла в прошлое, а легенда осталась: единственный в мире дворец, где атланты держали на плечах не небо… а эпоху замороженного изобилия.
Толстосум, Мельпомена и Три Клеветы
Почему московский купец честнее петербургского чиновника, умнее славянофила и культурнее парижского маркиза
СЦЕНА ПЕРВАЯ: КЛУБ «АГРАРИЕВ»
(Москва, 1898 год. Дым сигар, звон рюмок)
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.