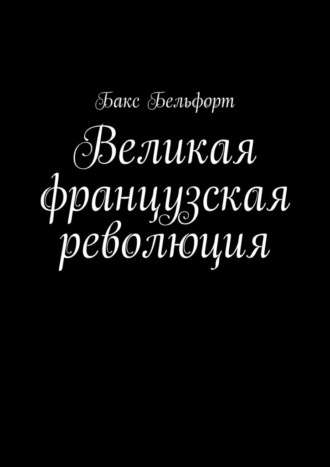
Полная версия
Великая французская революция
На следующий день, 14 июля, с утра из уст в уста, переходил призыв – «К инвалидам!», т.е. в военный госпиталь. Там, наконец, можно было достать оружие. И народ, действительно, был вознагражден за свое смелое сопротивление собравшимся на Марсовом поле войскам, пробившись к этому большому военному складу.
С триумфом взято было оттуда 28 тысяч мушкетов, кроме пушек, сабель и пик. Между тем, разнесся слух, что королевские полки, расположенные в Сен-Дени, идут на Париж и что, кроме того, пушки из Бастилии направлены на бульвар Сен-Антуана.
Всё внимание Парижа тотчас же обратилось на первый пункт, действительно, господствовавший над самыми населенными кварталами города. Всё утро неумолчно раздавался один только крик – «На Бастилию!» Бастилия была великой эмблемой королевской власти и авторитета. В средние века она служила королям оплотом против буйных феодальных баронов. Но хотя французское дворянство давно уже превратилось из «буйных баронов» в изящных и льстивых придворных, Бастилия, тем не менее, оставалась великим воплощением централизованной теперь власти французского короля. Таким образом, взятием Бастилии был бы нанесен самый чувствительный удар «престижу» короля. Добавьте к этому, что, давно уже перестав служить своему первоначальному назначению, Бастилия была особенно ненавистна народу, как место заключения для лиц, захваченных по тайному приказанию короля (по так называеым, lettres dе cachets). И вот, перед Бастилией со всех кварталов начала собираться сооруженная толпа, пока перед крепостью не образовался как бы целый лес всякого рода оружия. Начались переговоры с комендантом Делонэ, но народ настойчиво кричал: «Нам нужна Бастилия!» От слов перешли, к делу, ударами топоров, как говорят, двух человек, мост был разрушен. Толпа хлынула и атаковала второй подъемный мост, храбро защищаемый небольшим гарнизоном.
Довольно много нападающих пали убитыми и ранеными. Осада продолжалась уже более четырех часов, когда прибыла с пушкой французская гвардия, ставшая уже, как мы видели, на сторону революции. Гарнизон, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, заявил коменданту о необходимости сдаться. Но старый Делонэ предпочитал взорвать крепость и самому погибнуть под её развалинами. Однако, товарищи помешали ему выполнить этот план. После этого солдаты сдались на условии, что им пощадят жизнь. Вожаки народа, стоявшие в первых рядах и давшие в том слово, употребили всевозможные усилия, чтобы защитить гарнизон от неистовства толпы. Но среди тысяч, ворвавшихся в крепость, мало кто знал толком, что, собственно, произошло. В результате, Делонэ и несколько швейцарских солдат из гарнизона погибли жертвами народного гнева.
Между тем, в городской ратуше царили трепет и смятение. Больше всего трепетал «купеческий прево» Флессель, опасаясь мести за свое предательство. Страх этот немало не уменьшился, когда крики «свобода!», «победа!», раздававшиеся из тысячи глоток, достигали до ушей, заседавших в ратуше, и становились громче с минуты на минуту. То были завоеватели Бастилия, с триумфом несшие своих героев в городское здание.
И вот, в зале ратуши вступила восторженная, беспорядочная толпа, растрепанная, испачканная кровью, вооруженная пиками, мушкетами, топорами и всем, что только подвернулось под руку. Над головами толпы кто-то держал ключи Бастилии, другой «правила» тюрьмы, третий воротник (collar) коменданта.
Всеобщая амнистия захваченных защитников Бастилии была принята после сильного сопротивления. Но «купеческому прево» отделаться было ещё труднее. На трупе Делонэ найдено было письмо, в котором Флессель заявил, что он пока забавляет парижан кокардами и обещаниями, и что если крепость продержится до ночи, то помощь подоспеет. В Пале-Рояле решено было учинить над ним импровизированный суд, но по дороге туда кто-то застрелил его из пистолета.
Когда прошло возбуждение, были удвоены предосторожности против возможных попыток со стороны королевского двора овладеть столицей. Повсюду строили баррикады, выворачивались камни из мостовой, коваля пики. Все население целую ночь занято было работой на улицах. Насколько основательны были опасения парижан, становилось очевидным для всякого, побывавшего в то время в Версале, где Бретель, первый министр, только что обещал королю в три дня восстановить авторитет королевской власти; в эту ночь назначено было нападение на мятежников, и королевским войскам раздавались подарки и происходило угощение.
Собрание, заседавшее непрерывно, собиралось послать лишнюю депутацию к королю (две уже оно посылало раньше), как он явился лично. Получив ночью сообщение обо всем происшедшем от своего «grand maître de garderobe», он воскликнул: «Да это бунт!» – «Нет, ваше величество, ответил тот, это – революция». Когда король в Собрании стал уверять в своих неизменных чувствах к подданным, заявивши, что он отдал приказ об удалении чужеземных войск из Парижа и Версаля и вверяет себя охране одних только народных представителей и т.д., Национальное Собрание в восторге поднялось с своих мест и в полном своем составе проводило короля до дворца.
Новость распространилась быстро. Чувства кругом сразу же изменились: страх перешел в воодушевление, ненависть – в благодарность. Общий восторг еще увеличился благодаря возвращению Неккера на пост министра, вступлению Людовика XVI в Париж и принятию им трехцветной кокарды. Так закончился подготовительный период революции. Нечего и говорить, что впечатление, произведенное на всю Францию победой народа, было огромно, и с тех пор каждый город стал революционным центром с определенной революционной организацией.
На два пункта следует указать в этой старой, давно всем известной истории падения Бастилии. Первый – это громадное значение народной «силы», примененной в удачно выбранный момент. Прежде могло бы показаться нелепым утверждение, что грубая, «недисциплинированная чернь» могла взять крепость и парализовать усилия реакции, обладающей регулярной армией. На самом же деле оказалось именно так.
Далее следует указать на ненадежность людей, принадлежащих к производящему революцию классу и даже называющих себя его представителями, как скоро их личный интерес и положение оказываются связанными с существующим порядком. Флессель, принадлежавший к третьему сословию, главный его представитель в Париже, как оказалось, больше всех боялся ниспровержения феодальной иерархии. А почему? Потому что он составлял часть её. «Третье сословие» включено было в средневековую систему. Он был его представителем, как одного из феодальных сословии. Правда, оно находилось в подчиненном положении, но теперь, когда его значение стало возрастать, руководители его могли выиграть значительно больше, держась за хвост аристократии и помогая ей против революции, к которой стремился весь средний класс, нежели содействуя осуществлению последней, ибо тогда они потеряли бы свое личное привилегированное положение. История повторяется. Современные трейд-юнионы завоевали себе признанье и покровительство со стороны среднего класса. Но вожди их не обнаруживают особенного стремления к переменам, которые, освобождая и доставляя торжество, представляемому ими классу, в то же время отодвинули бы в область прошлого как трейд-юнионы, так и кабинет министров и лорд-мэров, заигрывающих с парламентскими представителями последних. Нет, подобные перспективы вовсе не улыбаются вождям трейд-юнионов.
V. Продавцы конституции
Конституция была в полном ходу. Революция была официально признана.
Отступать было уже поздно. Фулон и Бертье, «два перворазрядных администратора» старого режима, были публично повешены народом на фонарном столбе – à la lanterne. Первый ряд революционеров уже занял своя посты. Мирабо, Лафайет, Байи были центральными фигурами учредительного собрания; Дюпор, Барнав, Ламет – его крайними элементами. Граф Мирабо (1749—1796), один из дореволюционных писателей, являлся вождем умеренной партии в собрании. Громадное ораторское дарование делало его полезным союзником и опасным противником. Двор не замедлил понять это, и Мирабо был скоро подкуплен, чтобы не пропускать в собрании ни одного полезного для народа постановления; тем не менее, на словах он продолжал горячо стоять за дело свободы и народа. Потерпев в этом неудачу, популярный оратор не задумался прибегнуть к заговору и интригам.
Маркиз Лафайет (1757—1834), приобретший известность в американской войне за независимость, был аристократ, усвоивший себе еще до революции, передовые взгляды и стремления, популярные тогда среди его класса, был военным представителем умеренной партии в собрании, в качестве командира национальной гвардии, и верным пажом Мирабо. Байи (1736—1793), избранный мэром Парижа через день после взятия Бастилии, тоже старался внести больше умеренности в действия революции. Что касается крайних, то в действительности они стояли лишь за самую умеренную форму конституционной монархии. Положение партий ясно видно из того факта, что Барнав стоял за право короля временно приостанавливать постановления собрания. Мирабо горячо настаивал на безусловном veto. Надо заметить, что право налагать запрещение на вредные меры было бы не одной только простой формальностью. Таким образом, даже самые передовые парламентарии того времени не шли дальше современной прусской конституции. Тем не менее, обстоятельства уже рано заставили это робкое и сравнительно реакционное собрание прибегнуть к энергичным политическим мерам и, прежде всего, – в знаменитую ночь 4 августа, к отмене всех синьоральных прав и привилегий. Впоследствии, когда собрание перешло в Париж, крики с галерей и трибун, занятых передовыми революционерами, оказывали несомненное влияние на постановления собрания. Члены его отлично знали, что жизнь их в руках парижского населения, а жизнь их жен, детей, не говоря уже о собственности, в руках деревенского населения.
Первым важным постановлением собрания после взятия Бастилии была декларация прав человека, в подражание американской, провозглашенной по окончании войны за независимость. Декларация прав человека содержит ряд параграфов, излагающих принципы политического равенства. Большая часть их неопровержимы и даже элементарны; характерен §17, категорически утверждающий неприкосновенность частной собственности. Возникший вслед за тем вопрос об организации палаты представителей и её отношениях к королю не представляет для нас особенного интереса. Достаточно заметить, что, пока собрание забавлялось спорами относительно «временного veto» и «абсолютного veto», двор, т.е. королева и её приближенные в Версале, задумывали переселение короля в Мец, где расквартированы были наемные немецкие войска и откуда легко было вступить в сношения с эмигрировавшими из Франции аристократами и реакционными иностранными державами. План заключался в том, чтобы объявить Париж и Национальное Собрание мятежными и двинуться на них с войсками для восстановления монархии. Эти версальские махинации интересны тем, что дали повод к первой демонстрация парижского пролетариата во время революции. Ближайшим толчком к этой демонстрации послужил совет Марата, популярного журналиста, высказанный им за несколько дней (в газете «Друг народа») по поводу недостатка и дороговизны хлеба.
Вспышка разразилась таким образом. Женщина прошла по улицам, ударяя в барабан, с криком: «хлеба, хлеба!» Скоро ее окружила большая толпа других женщин, двинувшаяся к думе с требованием хлеба и оружия. В то же время поднялся крик: «В Версаль», подхваченный всем парижским населением с характерной для него быстротой и стремительностью. К толпе присоединилась национальная гвардия и французская гвардия с таким единодушием, что Лафайет после нескольких часов тщетных переговоров принужден был стать во главе её, так как она было двинулась в путь без него.
Неожиданное появление толпы, с женщинами впереди и внушительной вооруженной силой в арьергарде естественно повергло королеву и двор в удивление и смятение. Лейб-гвардия тотчас же окружила дворец.
Женщины, впрочем, обнаружили миролюбивые намерения и через свою представительницу изложили перед королем и Собранием свои жалобы на голод и дороговизну хлеба. Между тем, перед дворцом, на дворе, переполненном толпой, произошла ссора, причем королевский офицер ударил национального гвардейца. То было сигналом немедленного столкновения между двумя вооруженными отрядами. Народ и национальные гвардейцы рассвирепели, и стычка кончилась бы более значительным кровопролитием, если бы не наступила ночь и, если бы королевским солдатам не было отдано благоразумного приказания прекратить стрельбу и отступить.
Суматоха мало-помалу улеглась, толпы постепенно рассеялись с приближением ночи. Королевская семья разошлась спать в два часа. Лафайет, всю ночь остававшийся на ногах, в 5 часов утра решил немного отдохнуть. Но напрасно. Часов около шести некоторые из вчерашней толпы, не покидавшие Версаля, оскорбили одного лейб-гвардейца, который выстрелил и ранил одного из них. Неусыпный «герой двух миров» был скоро на месте происшествия; он нашел значительные остатки вчерашней толпы, бешено рвавшиеся во дворец. Нападающие скоро были рассеяны, но тотчас же собрались снова, требуя короля. Король появился на балконе, обещая, в ответ на требование народа, вернуться в Париж вместе с семейством.
Королева, главная виновница всего происшествия, вскоре тоже появилась на балконе в сопровождении утонченно-вежливого Лафайета, с глубоким почтением поцеловавшего руку женщины, задумывавшей избиение того самого народа, пред которым этот лицемерный шарлатан рассыпался в выражениях преданности. Но унижение парижан еще не кончилось. Лафайет ушел и скоро вернулся с одним из зловредных лейб-гвардейцев; приколов к груди его трехцветную кокарду, он обнял его. При, всех этих комедиях собравшаяся толпа разражалась одобрительными криками. Затем королевское семейство отбыло в Париж, и Тюльери стало с тех пор его постоянной резиденцией.
VI. Новая конституция
После только что описанных событий, относящихся к 5 и 6 октября 1789 года, течение революции на некоторое время отличалось мирным, парламентарным характером. Национальное Собрание, заседавшее до того времени в Версале, последовало за двором в Париж. Переселение это как бы послужило сигналом для энергичной переборки феодальной системы со стороны этого столь умеренного до той поры учреждения. Главными верхами и бастионами, подвергшимися нападению, были собственность и независимая организация церкви. Впрочем, предварительно Национальное Собрание восстановило карту Франции, уничтожив старое деление на провинции и заменив его существующим до сего времени делением на департаменты. В средние века провинции фактически являлись как бы отдельными независимыми государствами. Разделением на департаменты все королевство подчинялось одной центральной администрации и влекло за собой полное преобразование судебной системы. Было образованно 83 департамента, разделенных на округа, делавшиеся на кантоны. Департамент имел свой административный совет и исполнительное правление, кантон же был лишь избирательной единицей. Коммуна или город, управлялись генеральным советом и муниципалитетом, подчиненным департаментскому совету. Выборы все были не прямые, и всё здесь было как бы нарочно устроено с таким расчетом, чтобы устранить рабочий класс и крестьянство от влияния на законодательство.
Объявление церковных земель и вообще церковных имуществ национальной собственностью было ускорено в виду жалкого состояния казначейства. Неккер придумывал всевозможные планы, чтобы выпутаться из беды, но неудачно, когда, наконец, предложен был указанный проект, как единственное средство, хотя временно удовлетворяющее требованиям положения. В настоящем кратком очерке не представляется возможным подробно описать все последовательные стадии, через которые проект прошел в Национальном Собрании. Декрет об обращении церковных имуществ в национальную собственность был издан 2 декабря, и с того момента духовенство, как корпорация, стало заклятым врагом нового режима. В начале духовенство, по-видимому, более чем дворянство было склонно на уступки в надежде удержать за собой свои владения, но теперь, когда жребий быль брошен, оно стало неумолимо. Трудности, сопряженные с продажей церковной собственности, были, однако, велики, и в виду настоятельных нужд казны невозможно было ожидать её реализации. Отсюда явилась необходимость в выпуске ассигнаций, бумажек с принудительным обращением, обеспеченных ценностью экспроприированной земли. Подобная мера сводилась к применению бумажной денежной системы в обширных размерах и грозила неминуемо финансовым крахом.
Мероприятия эти были очень интересны и указывали на похвальное стремление к деятельности со стороны собрания; но они мало касались толпы, которую можно было видеть ежедневно у булочных и которая то и дело подымала уличные бунты. Рабочие Парижа ходили в Версаль просить просто хлеба, а Лафайет дал им королевскую семью. Всякий дальнейший ропот, конечно, надо было подавлять энергичными мирами. Сообразно с этим издан был военный закон и муниципалитету предоставлено право силой разгонять всякое скопление народа после однократного приглашения разойтись. Лафайет ждал только случая, чтобы применить на деле это постановление. Но случай пока не представлялся.
Клубы теперь начали играть руководящую роль во влиянии на общественное мнение. Главными из них были клуб якобинцев и клуб кордильеров. Потом был основан Лафайетом третий клуб – фельянтинцев, представителей «конституционных принципов». Якобинский клуб, предназначенный стать впоследствии, как бы великим неофициальным воплощением революции, мало мог насчитать своих приверженцев в Национальном Собрании, хотя Барнав и Ламет были его членами; случайное покровительство оказывали ему и некоторые «созидатели конституций», вместе с самим Мирабо. Среди якобинцев выделялась одна фигура, всегда безукоризненно одетая, произносившая не менее безукоризненно подготовленные речи. То быль один из депутатов, Максимилиан Робеспьер, адвокат по профессии, уроженец Арраса.
Клуб кордельеров состоял из передовой кучки якобинцев. Среди его постоянных посетителей можно было заметить стройного и дюжего землевладельца Дантона и короткого, коренастого, с резкими чертами лица журналиста Марата. Но пока еще клуб и их ораторы оказывали лишь самое отдаленное и косвенное влияние на ход событии, хотя они и энергично обсуждали всякие возникавшие вопросы.
Тем временем, несмотря на случайные смуты и опасения, что король готовится к бегству, дело сравнительно гладко подвигалось вперед к завершению конституции, к установлению политического господства среднего класса
Шли приготовления к торжественному празднованию годовщины падения Бастилия. По этому поводу заседание Национального Собрания должно было состояться на Марсовом поле. «Передовые» из дворянства, чтобы не отстать в патриотизме, предложили ради национального праздника уничтожить титулы, гербы и прочие эмблемы феодальных привилегий. Предложение это с энтузиазмом было принято Собранием. Конечно, оно возбудило живейшее негодование среди остальной знати и содействовало дальнейшему развитию организовавшегося движения эмиграции аристократов.
14 июля 1790 года, несмотря на дурную погоду, население Парижа хлынуло со всех концов в праздничных костюмах, среди развевающихся трехцветных знамен, к Марсову полю, где в центре искусственного амфитеатра был воздвигнут гигантский алтарь. Королевское семейство, Национальное Собрание и муниципалитет сгруппировались вокруг него, и популярный епископ Талейран (впоследствии знаменитый дипломат и остряк) в полном епископском облачении совершил перед ними богослужение. Лафайет первый подошел к алтарю и от имени национальной гвардии всего королевства принес торжественную присягу в верности «нации, закону и королю». Салюты артиллерии и громкие крики: «да здравствует нация!», «да здравствует король!» сопровождали эту клятву. Ту же присягу принесли затем президент Национального Собрания, депутаты, департаментские советы и прочие. Но самым торжественным моментом был тот, когда сам Людовик XVI, король Франции, приблизившись к алтарю, дал клятву хранить конституцию, данную Национальным Собранием. Эта часть церемонии, как и всегда в подобных случаях, закончилась появлением королевы с дофином на руках, к великому восторгу и восхищению собравшейся толпы, приветствовавшей ее долгими кликами. День прошел среди радостных восклицаний и выражений благодарности.
Таково было объявление первой французской конституции. Не смотря, однако, на новую и блестящую свободу, толпы голодных парижан продолжали ежедневно тесниться у булочным и уходили оттуда ни с чем.
VII. Конституция при смерти
Все государственные чиновники, военные и гражданские, а также духовенство должны были принести теперь присягу новому порядку вещей. Это повело к возмущению со стороны большинства дворян и духовенства, негодование которых дошло до высшего предела вследствие утраты ими своих привилегий и доходов. Офицеры-аристократы массами стали покидать армию и страну, чтобы присоединиться к своим собратьям за границей. Другие, как, например, Буйе, подчинились в расчете воспользоваться армией для контрреволюции. В то время офицерство состояло почти исключительно из аристократов, и это подавало повод к многочисленным вспышкам и восстаниям. Бунт трех полков в городе Нанси был подавлен Буйе лишь после большего кровопролития. Большая часть духовенства отказалась как дать присягу, так и покинуть свои поместья добровольно, при чем находила себе поддержку со стороны громадного большинства епископов, с папой во главе. Они заявили, что новая конституция, подчинив духовную власть светской, ведёт к захвату привилегий духовенства; папа отказался посвятить новых епископов вместо старых, удаленных за неуступчивость, и не признал избрания всех новых духовных, сделанного согласно новой конституции. Между тем, удаление непримиримых священников продолжалось, и их преемники посвящались епископами Отенским и Лидскими, беспрекословно принявшими конституцию. Противоположная же партия стала отлучать от церкви всех признававшихся «самозванцами», как она их называла. Так началась междоусобная война церкви и революция. Духовенство само подготовило народный ум к восприятию и усвоению учений писателей-предтеч революции, которые до того времена являлись, главным образом, достоянием незанятых и образованных классов, приводя народ к логической дилемме – дружественное отношение к революции и враждебное к христианству, или обратно.
Что касается аристократов «эмигрантов», то их целью было возбудить ненависть иностранных держав к революции и сплотить их в коалицию для насильственного ниспровержения её путем вторжения извне. Почти три года эти интриги с «иностранцами» велись при полном потворстве со стороны королевского двора, пока, наконец, падение монархии не привело к «борьбе на ножах» с державами, известной под названием «революционной войны».
Для понимания положения дел надо вспомнить, что со времени падения феодализма, как живого политического строя, с его ссорами между королем и его более или менее номинально вассальными баронами, власть все более и более сосредоточивалась в руках короля; в то же время национальности вполне точно определились и обособились. В результате этого внутренняя политика, преобладавшая в феодальный период, начиная с XVI века, стала уступать место политике внешней, при которой монархи Европы, перестав бояться соперничества и притязаний дворянства в области их юрисдикции, нашли поводы для столкновений со своими же собратьями-монархами, обыкновенно – в целях приобрести новые владения. Наконец, французская революции для материка открывает собою новый периода в борьбе монархов, борьбе не с дворянством внутри страны и не друг с другом, но с народом, т.е. со средними классами, за спиной которых стоит пролетариат. Борьба эта началась в Англии лет на сто раньше, чем на материке, но, в действительности, снова стихла с революцией 1689 года.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

