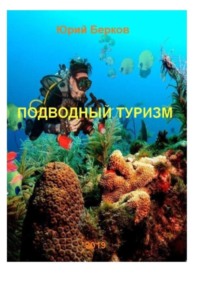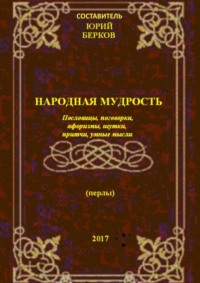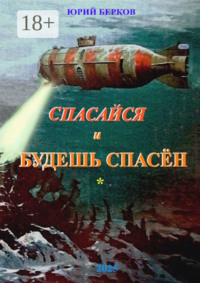Полная версия
Мои бредовые идеи. И не совсем бредовые
Конечно, останутся города, транспорт, ведь грузы на себе не повезёшь. И сельское хозяйство останется, так как нужен высококачественный корм для новых людей-птиц, нужна одежда, жильё, школы, театры и многое другое.
Впрочем, сельское хозяйство, наверное, здорово изменится. Ведь, высококачественный белковый корм будут производить на специальных химических заводах из любого растительного сырья. Из любого! Из травы, из листьев и даже из веток деревьев. Коси траву, вычищай леса и готовь корм. Здорово! Значит, не потребуется разводить животных для их для съедания. Человечество станет гуманней. Да и времени свободного станет больше. Столько лишних хлопот отпадёт!
Здорово я придумал! Один прорыв в будущее тянет за собой массу других. Вот так всегда, одно цепляется за другое. «Если беда, то не одна, а если удача, то с придачей».
Так думал Сергей, возвращаясь из института домой. Хмурый зимний день перевалил за половину. Небо было затянуто серыми облаками, мела позёмка и редкие прохожие старались поскорей укрыться в транспорте, в подъездах домов, в кафе, в магазинах. Лишь поток машин вяло тянулся нескончаемой лентой по широкому проспекту, да вороны сонно летали над головами прохожих, выискивая что-нибудь съестное. Сергей повертел головой, прикидывая где бы тут смог взлететь или опуститься современный Икар и не нашёл подходящего места кроме сквера на площади.
«Да, не приспособлены наши города для таких крупных „пернатых“, – подумал он. – Придётся делать специальные площадки или приспосабливать крыши домов. Иначе будет много травм. Если размах крыльев „Икаров“ составит 4 – 5 метров, то с тротуара не взлететь. Вот ещё одна проблема».
А вечером, войдя в биохимическую лабораторию, Сергей застал там своего друга Андрея. Тот, склонившись над монитором, что-то внимательно рассматривал.
– Привет. Чем занимаешься?
– Готовлюсь к сессии. Решил ещё раз посмотреть полимеразную цепную реакцию.
Чего там смотреть? Всё проще пареной репы. Денатурируешь две цепочки ДНК и присоединяешь к ним праймеры. Затем удлиняешь их и получаешь копию ДНК. Повторяешь весь цикл и две копии ДНК в кармане. Затем их четыре, потом восемь и так далее. Хоть миллион, до неба! Это гениальное открытие Мюллиса позволяет копировать любую ДНК в неограниченном количестве. Стоит только генетикам создать новую ДНК какого-нибудь организма или растения, и мы сможем получить её в миллионах экземплярах в считанные часы. А дальше помещаем ДНК в безъядерную клетку и пошло размножение! Смотришь, через пару недель из пробирки лезет новое неизвестное миру растение или формируется невиданное раньше животное.
– Скоро, наверное, и детей так будут делать, – усмехнулся Андрей.
– Это точно. Нужно только найти бездефектный геном или создать его методами генной инженерии. Это раньше «общественность» резко возражала против евгенических целей генетики. «Пусть, мол, всё идёт естественным путём! На всё воля божья! Мы не в праве вмешиваться в его творение». Чушь! Разве мы не преследуем евгенических целей улучшения рода, выбирая в жёны красивых и здоровых женщин? Те же цели преследуют и женщины, выбирая в отцы своему будущему ребёнку здорового и красивого мужчину. Это в природе человека.
– Не только красивого, но и умного, – уточнил Андрей.
– На счёт мужчины, ты прав. А вот с женщинами… Почему-то мужчины меньше всего ценят в женщине ум. Может потому, что надеются, что их мужского ума хватит на двоих? Но надо же думать и о потомстве! – возмущался Сергей.
– Это верно. С красивой дурочкой хорошо только в постели… Да и то временно. Она не способна на изысканный секс. А примитивный быстро надоедает. Дети же от такого брака вообще не желательны.
– Согласен. Хорошо, что в наше время евгенические цели генетики не только не запрещаются, но и всячески приветствуются. Сколько талантливых детей получено от знаменитых спортсменов, артистов, учёных благодаря ЭКО, т.е. искусственному их зачатию элитной спермой! Конечно, не все они талантливы так же, как их отцы, но всё же талантов стало больше. Род человеческий постепенно улучшается. И это прекрасно!
Андрей кивнул в знак согласия.
– А ты знаешь, какая идея меня сегодня осенила? – спросил после некоторой паузы Сергей, – почему бы нам ни создать человека – птицу?
И он принялся рассказывать другу свой замысел. Андрей выслушал его с интересом и согласился. Его тоже не раз посещали подобные идеи.
– Проблема вполне разрешимая. Но почему бы заодно не создать и человека – амфибию, который мог бы жить под водой?
– Ты собираешься разводить русалок? – усмехнулся Сергей. – А зачем они тебе?
– Да так… В океане просторно. Там ещё три таких цивилизации как наша поместятся.
– А зачем?
– Как зачем? Чтобы жить.
– Зачем?! Я понимаю, когда человек рвётся в космос. Не всегда наша планета будет пригодна для жизни, и нужно будет спасать цивилизацию. Но в океане-то, что нам делать?
– Так самое главное, что делать-то там ничего не надо! Плавай себе да хватай рыбёшку, любуйся подводными ландшафтами.
– То есть, ты предлагаешь жить как дельфины?
– Конечно.
– Но дельфины уже есть. Зачем нужны новые дельфины?
Андрей задумался.
– Это будут не просто дельфины, а очень умные дельфины, образованные!
– Ха! Ну, ты даёшь! Зачем дельфинам образование, если не нужно ничего делать? Ни одежду шить, ни дома строить, ни машины. И еды вокруг сколько хочешь! Имей только хороший гидролокатор в голове, да приличную скорость и всегда будешь сыт. Ты знаешь, что у дельфинов мозг в полтора раза больше человеческого?
– Слыхал.
– Так чем тебе это не интеллект? Или ты хочешь сделать его ещё более совершенным?
– Конечно.
– Зачем?! Зачем иметь лишний интеллект, не приносящий никакой пользы? В природе всё целесообразно и нет никакой избыточности. Интеллект, не находящий повседневного спроса, быстро зачахнет. Потомство будет глупее своих родителей. И всё, в конечном итоге, сведётся к обычным дельфинам.
– А зачем дельфинам такой развитый мозг, если им не нужно особого интеллекта? – спросил Андрей.
– Смотря, что понимать под интеллектом! Если образование, науку, культуру, это одно, а если способность быстро ориентироваться в окружающей обстановке, приспосабливаться к различным условиям существования – это другое.
Я читал про дельфинов. Их развитый мозг нужен им для выживания. В воде всё решает звук. Видимость там неважная. Только звук позволяет находить добычу, спасаться от врагов. Кроме гидролокатора, в голове у дельфинов есть ещё и звуковизор. Он видит в воде с помощью очень коротких звуковых импульсов. Звуковизор позволяет различать под водой всевозможные предметы даже в абсолютной темноте. Чётко отличать одну рыбёшку от другой. Живой предмет от неживого. Вот только обработка акустических сигналов при звуковидении и гидролокации очень сложна. Приходится отфильтровывать массу помех, исследовать тонкую структуру сигналов, распознавать нечёткие звуковые образы. Для этого и нужен дельфинам такой совершенный мозг.
– Но у акул-то интеллект гораздо ниже, чем у дельфинов, а они живут и не вымирают, – возразил Андрей. – Находят себе пищу, спасаются от врагов.
– Ну, во-первых, у акул в океане почти нет врагов, кроме человека. Во-вторых, они имеют очень развитое обоняние и тонкий слух. Это и помогает им находить добычу. Дельфины более уязвимы. Когда-то они перешли с суши в воду. Они теплокровные и дышат воздухом. Поэтому привязаны к поверхности воды. Их детёнышей необходимо постоянно охранять, поддерживать на плаву, кормить молоком. Всё это требует более высокого интеллекта. Дельфины приспособились жить в воде, а акулы родились в ней.
– И всё-таки, я думаю, что человек – амфибия когда-нибудь появится на свет, – не сдавался Андрей. – Человечество будет расти, и условия жизни на суше будут постепенно ухудшаться.
– Пожалуй, я могу согласиться с тем, что в будущем появятся люди подобные дельфинам, – задумчиво произнёс Сергей. – И под водой они будут разводить плантации водорослей, устриц. Рыбы в океане не хватит, если ещё одно человечество переселить под воду. Вот тогда-то и потребуется высокий интеллект, чтобы создавать подводные фермы, заводы по переработке морепродуктов. Придётся искусственно разводить рыбу и морских животных. Только это произойдёт очень не скоро. А вот человек – птица, это более близкая реальность. За это можно взяться уже сейчас. Он не будет лишним на Земле.
– Да. Ты прав, – согласился Андрей. – А ещё в недалёком будущем вполне реальны большие космические поселения на спутниках других планет. Вот тут-то и потребуется высочайший интеллект! Ведь всё придётся делать искусственно. Начиная с корпуса станции и кончая сложнейшей электроникой, искусственным интеллектом, системами жизнеобеспечения. Причём, не всегда это будет делаться на Земле. Появятся заводы и на Луне, и на Марсе, и на его спутниках, и так далее.
Постепенно человечество расползётся по всей солнечной системе. Это будут очень умные люди. Небольшого роста, но с очень развитым мозгом. Хорошо приспособленные к жизни в небольших объёмах космических станций, в лунных и марсианских подземных городах. По существу это будет новый тип людей, новые кроманьонцы. И за ними будущее нашей цивилизации.
– Согласен. И так, мы определили три перспективных типа людей будущего. Это человек – птица, человек – амфибия и человек космический. Но, по-моему, мы заболтались с тобой и оторвал тебя от занятий, – произнёс Сергей.
– Ничего, небольшая умственная разминка не помешает, – ответил Андрей.
И друзья занялись каждый своим делом.
1.3. Ключ генетики
Заканчивался ноябрь. За окном мела позёмка, а в лаборатории института было тепло и тихо. Андрей сидел за компьютером, завершая оформление заявки на своё небольшое открытие. Сергей работал с компьютерной моделью 23-ей X-хромосомы.
В лабораторию вошёл профессор Лебедев.
– Добрый вечер, друзья. Как успехи?
– Нормально, – ответил за всех Андрей.
– Это хорошо. А у меня к вам просьба. Небольшая… Надо считать геном одного пациента клиники. Проверить его клетки на наличие геномных мутаций. Хотел поручить это начальнику лаборатории, да он сильно загружен. Пишет итоговый отчёт по теме «Детектор».
– Чьи клетки? – спросил Сергей.
– Да парнишки одного, который долгое время болел после облучения.
– А в чём дело? Зачем ему понадобился геномный анализ? До сих пор мы делали только хромосомный. Этого достаточно, чтобы судить о степени поражения генома.
– Хромосомный анализ уже сделали. Все хромосомы на месте. Мейоз нормальный. Полный гаплойдный набор. Но когда лаборантка показала фотографии профессору Звереву, тот заметил некоторые утолщения в локусах 6-ой и 7-ой хромосом. Диски как бы слегка пуфированы. Это его заинтересовало. Вот Зверев и попросил меня сделать анализ генома. Разобраться в чём дело. Ты сможешь это сделать?
– Когда надо?
– Желательно сегодня.
– Но уже семь часов… Это займёт часа два, если исследовать только две эти хромосомы… Попробуем, конечно… И Сергей стал готовить к работе многоканальный секвенатор ДНК.
– Что нового в генетической науке? – задал Сергей профессору дежурный вопрос, чтобы поддержать разговор.
– Что новенького? Да как тебе сказать? Всё новенькое ты знаешь не хуже меня. Каждый день открытия в науке не делаются… Вот Институт генетики в Москве берёт на следующий год тему: «Моделирование саморазвития зародыша человека по заданному генетическому коду». Нас тоже приглашают участвовать в этой теме. Теперь у них есть полная модель генома человека со всевозможными мутациями. Раньше институт вёл подобную тему по геному мыши. Получалось неплохо. Компьютер моделировал процесс саморазвития зародыша от единичной оплодотворённой яйцеклетки до зрелого плода, готового к рождению. Все мутации генома чётко прослеживались в дефектах плода. Они совпадали с набранной статистикой по мутациям генома мыши. Компьютер чётко показал, какие уродства возникают при тех или иных хромосомных мутациях, какие дефекты формируются при генных мутациях. Когда плод жизнеспособен, а когда нет. Они также имитировали влияние внешних условий на развитие плода. Меняли температуру, рН крови, вводили разные химические соединения в плазму, геномы вирусов и всё это условно, на генетической модели. Но модель саморазвития зародыша абсолютно адекватно реагировала на все эти действия. На дисплее можно было видеть контуры мышонка, его внутренние органы, как будто там был настоящий зародыш.
– Здорово, – отозвался прислушивавшийся к разговору Андрей. – Значит, теперь решили сразу перейти к геному человека?
– Да. А чего тянуть? Ведь генетическая модель человека это не человек. Здесь не надо делать эксперименты на людях. А с моделью можно экспериментировать сколько угодно. Я не думаю, что у них сразу всё получится, но попытка – не пытка.
Тем временем Сергей уже заканчивал подготовку секвенатора.
– Всё, – заявил он, – давайте, Леонид Иванович, сюда пробирку.
Через несколько минут секвенатор был запущен и компьютер начал анализ генома.
– Ну вот, теперь остаётся только ждать, – сказал Сергей. – А пока давайте попьём чайку! Андрей, хватит тебе корпеть над наукой, отдохни.
Андрей оторвался от своего занятия.
– Я слышал про эксперименты на растениях. Там генетики действительно добились больших успехов. Ещё лет десять назад у них из модели генетического кода пшеницы появлялся какой-то «лопух», а теперь компьютерную модель растения не отличишь от настоящего.
– Ну, на счёт лопуха ты малость загнул, – сказал профессор, – однако действительно сложности были. Но проблема-то какова?! Всё необходимо смоделировать абсолютно точно, и всё это на генном, на молекулярном, на клеточном и на тканевом уровнях! Кроме того, необходимо смоделировать условия развития зародыша, в среде его обитания. Малейшая неточность и картина искажена. Эти десять лет не прошли даром. Теперь генетики научились точно воспроизводить весь онтогенез.
– Это прекрасно, но какова практическая ценность этих моделей? – спросил Андрей.
– А ты знаешь пословицу: «Нет ничего практичней хорошей теории» – ответил Леонид Иванович. – Практическая ценность заключается в возможности прокрутить весь процесс развития зародыша во взрослое растение за несколько часов, вместо нескольких месяцев или нескольких лет естественной селекции.
На экране компьютера всё протекает как в ускоренном кино. Не успел посадить семечко, а уже появился росток, затем цветок, а вскоре и плод. Представляешь насколько быстро теперь можно исследовать влияние тех или иных мутаций генома на развитие организма!? Мутации можно вводить искусственно, перестраивая геном по своему усмотрению. Это же генная инженерия на высшем уровне! Это высший пилотаж в генетике. А представляешь ли ты, каких химер можно получить на экране! Но среди этих химер могут попасться и очень ценные формы жизни. Не нужны ни растения, ни животные, ни человек, нужна только информационная модель саморазвития генома. И мы сможем на компьютерах конструировать новые виды растений, животных и, наконец, человека! Мы сможем приспосабливать их к самым невиданным условиям обитания, к жизни на других планетах, в далёких космических поселениях, везде, где в принципе возможна жизнь.
– Это хорошо, но это весьма далёкие перспективы. А что мы имеем сегодня? – спросил Сергей, наливая чай в стаканы.
– А сегодня мы имеем возможность быстрой селекции наших земных растений и животных. Ты знаком с сельским хозяйством?
– Слегка. В основном как потребитель сельхозпродуктов.
– Ну и я примерно так же. Однако я знаю, например, что современные огурцы выращивают на кабачковой основе. То есть, мы имеем ствол, листья и плоды огурца, а корни кабачка.
– И зачем это нужно?
– А затем, что кабачки менее теплолюбивы, менее требовательны к воде, и более высокоурожайны. И в то же время, они из семейства огуречных. Так что генетически они близки с огурцом. Все изменения генома кабачка сперва были проиграны на компьютере, а затем осуществлены на практике методами генной инженерии. В результате были получены новые ценные растения.
Или возьми тыкву – нашу северную культуру. Она дальняя родственница дыням. Сейчас уже получены северные дыни, выращенные на генетической основе тыквы. А сколько ещё замечательных возможностей сулит нам генная инженерия в сочетании с компьютерным моделированием?! Я верю, что появится северный ананас, северный виноград, северный арбуз, да и вообще неизвестные ранее фрукты и овощи.
А животные! Ты видел современных коров? Это же не коровы, а фабрики молока! Ноги у них короче, но мощнее, особенно задние, вымя – в полживота, а тело покрыто густой шерстью, как у мамонтов. Так, что им не страшны сибирские морозы. Животные годятся для безстойлового содержания и зимой, и летом. Только корм давай! А они отдадут тебе и молоко, и мясо, и шерсть. Мы часто не обращаем внимания на современных животных. Они для нас привычны. Но лет 20 – 30 назад их ещё не было! Это новые породы.
– Вы хотите сказать, что уже недалеко и до конструирования нового человека? – спросил Андрей.
– Конечно, – ответил Леонид Иванович. – Лет через сто мы будем казаться нашим потомкам неандертальцами каменного века. Родятся новые люди, новые кроманьонцы, с более совершенным телом, более совершенным мозгом, с большей продолжительностью жизни, красивые и здоровые.
– А что будет через 200 – 300 лет? – спросил Сергей.
– А через 300 лет вы вряд ли встретите человека в современном его обличии. Человечество выйдет за пределы Земли и расползётся по всей Солнечной системе! Жить ему придётся в самых разнообразных условиях: и на далёких планетах и на их спутниках, и в космосе, и под водой, и на поверхности планет и под поверхностью. Человек с помощью генной инженерии изменит себя до неузнаваемости. Мы стоим на пороге генетической революции. Через 300 лет люди смогут жить в воде как дельфины, летать по небу как птицы и выдерживать перегрузки в сотни G, перемещаясь в космосе на гигантские расстояния. Конечно, это будут разные организмы, но всех их объединит высокий интеллект. Люди будущего будут жить долго, победят все болезни, будут программировать свой мозг и младенцы станут умны как старцы, а старцы будут на порядок умнее нас с вами.
– Прекрасно! – воскликнул Сергей. Похоже, что моделирование саморазвития генома – это ключ генетики. Ключ в будущее! Приятно, чёрт побери, что и мы скоро приложим к этому руку. Что хоть одна бороздка, хоть одна загогулинка в этом сложнейшем ключе – будет наша! А как мы, Леонид Иванович, будем участвовать в этой теме?
– Наш институт будет анализировать, насколько совпадают последствия мутаций 23-ей хромосомы, выявленные на основании статистики, с данными компьютерной модели. Нам предстоит очень непростая и кропотливая работа. Задача состоит в том, чтобы добиться полной адекватности искусственного и естественного организмов.
– А мы сможем участвовать в этой работе? – спросил Андрей.
– Если хотите, сможете. Я заключу с вами договор, и вы будете в составе временного творческого коллектива. Заодно напишете диссертации. Года через три станете кандидатами биологических наук. А там прямой путь в доктора наук и в академики!
– Ну, скажете тоже… Какой из меня академик?! – заявил Сергей.
– А ты думаешь академики все очень старые и очень серьёзные?
Сергей пожал плечами. – Не знаю… Я как-то об этом не думал… Но, кажется, нам пора посмотреть, что получилось с анализом генома.
– Выведи, пожалуйста, на дисплей данные анализа 6-й хромосомы, – попросил Лебедев?
– Сейчас.
На экране появились результаты анализа генома. Из 14400 молекул ДНК 6502 оказались в пределах нормы, а 6793 – мутантными. Мутация почти везде одна и та же. В район 19-го локуса попала лишняя цепочка нуклеотидов. 1105 каналов секвенатора вообще не сработали.
– Что же это может быть? – недоумевал Сергей. – Вирусная ДНК? Не похоже. Слишком большая… И потом, мутация стойкая.
Андрей и Леонид Иванович тоже стояли, почёсывая затылок, и терялись в догадках.
– Странно… Везде закодирована одна и та же полипептидная цепь, – произнёс профессор. – А что мы имеем по 7-ой хромосоме?
Сергей быстро нашёл нужный отрезок информации.
– Смотрите! И здесь она!
– А диски-то пуфированы, – отметил Андрей.
– Да, чёрт возьми, эта цепочка генов активна. Её не заблокируешь. Аллель доминантен! Значит, будут изменения на клеточном уровне. Но к чему они приведут? У нас есть в картотеке что-нибудь подобное?
Леонид Иванович пожал плечами. – Пойду, посоветуюсь со Зверевым, – сказал он и вышел.
Друзья закрыли лабораторию и отправились по домам.
1.4. В лаборатории
Сибирь, Найск, июнь.
Пообедав, Сергей пошёл в институт, чтобы отчитаться за командировку в Париж. Был уже конец рабочего дня и институт опустел. Сергей зашёл в канцелярию, сдал командировочные документы, потом стал искать профессора Лебедева. В кабинете его не было. Сергей начал заглядывать в разные лаборатории. Лаборатория Кондеева была открыта. Там он и увидел профессора.
– А, «француз» наш приехал! Заходи, – приветствовал его Леонид Иванович. – Ну что, с победой?
– С победой, – ответил Сергей.
– Поздравляю.
В лаборатории находились начальник лаборатории, доцент Кондеев, Андрей и ещё несколько инженеров – генетиков.
– И я поздравляю! – сказал Кондеев, пожимая руку Сергея. – Твоя модель мутаций генома признана наилучшей. – Это дело надо обмыть.
– Могу сбегать в магазин, – предложил Сергей.
– Не надо. Кое-что у нас найдётся, или мы не медики? Как общественность, не возражает?
– Не возражает, – загудела «общественность».
– Только немного, по пять капель, – предупредил Лебедев.
– А детям больше и не положено, – глядя на Сергея, иронически произнёс Кондеев.
Он открыл стеклянный шкаф и достал оттуда бутыль со спиртом.
– Берите посуду.
Все взяли по пробирке, а Кондеев, с помощью хирургического отсоса, налил каждому до половины.
– Остальное под краном, – сказал он.
Все замерли в ожидании тоста.
– Вам слово, Леонид Иванович, – обратился начлаб к профессору.
– Ну что ж, друзья мои, – начал Лебедев. – Не часто у нас бывают такие события, поэтому не грех и выпить. Я поздравляю тебя, Майоров. Твоя модель 23-ей Y-хромосомы признана весьма удачной. Эта модель наиболее адекватна реальным процессам, происходящим при репликации генома. Она открывает пути к совершенствованию статистических моделей других хромосом. Поэтому я предлагаю выпить за тебя, Сергей, за твой успех!
Раздались аплодисменты. Все осушили пробирки, запили водичкой и попросили рассказать, как прошла защита модели.
– Тебе слово, студент, – сказал профессор Лебедев.
И Сергей стал рассказывать присутствующим о своих сражениях с профессором Джексоном, о поддержке профессора Поля Моруа и биолога Ли-Сяо. О своём докладе на симпозиуме. Когда он закончил, Леонид Иванович задумчиво произнёс.
– Всё, что мы услышали от тебя, дружёк, очень интересно. А ты знаешь, по какому поводу мы здесь сегодня собрались?
Сергей внимательно посмотрел на профессора.
– А мы собрались здесь как раз по поводу твоей модели. Так что ты вовремя подошёл. Вот думаем, что с ней делать? Твоя модель не стыкуется с моделями других хромосом. Она слишком оригинальна. А переделка всех моделей по твоей методике – это задержка работы как минимум на полгода. Да её ещё надо организовать. А это ещё полгода. Всплывают вопросы финансирования, корректировки договоров, согласования методологии и т. д. Вот мы и совещаемся, как быть с твоей моделью? Ты же знаешь, что лучшее – враг хорошего. Модель 23-й X-хромосомы Кондеева уже работает. Хоть она и имеет недостатки, но она стыкуется с общей моделью генома. Твоя модель лучше, но она не стыкуется с другими моделями. Поэтому надо либо переделывать все модели под твою, либо твою модель переделать и состыковать со всеми.
– Не стану я уродовать свою модель, – решительно заявил Сергей. – Это же шаг назад!
– Это шаг вперёд, дружёк, поскольку позволит впервые собрать воедино статистическую модель вероятных мутаций всего генома человека, – возразил профессор Лебедев. – Ты не кипятись, а взгляни трезво на эту проблему. Тебе удалось сейчас немного вырваться вперёд. Это заметили и оценили. Но не может же паровоз убежать от своих вагонов! Паровоз тянет вперёд, а вагоны тянут его назад, но только так мы можем ехать. Твоя модель сейчас впереди, но если она не будет стыковаться с другими моделями – она бесполезна.
– Значит вся моя работа коту под хвост?! – возмутился Сергей.
– Нет, ты не прав. Твоя работа нужна, за нею будущее. И со временем все лаборатории мира ознакомятся с твоим методом и усовершенствуют свои модели. Но это уже новая научная работа. А нам надо завершить сегодняшнюю. И она должна быть закончена в срок. Поэтому я прошу тебя переработать свою модель и состыковать её с другими моделями хромосом. Наверняка через год – два появятся ещё какие-нибудь идеи, откроются новые возможности исследования генома. Они уже сейчас намечаются вполне конкретно. Не ты один думаешь над проблемами генетики. Когда идей накопится достаточно много, тогда и можно будет начинать новую работу. А пока мы поработаем с уже общепризнанной моделью Кондеева. Обкатаем её, получим опыт. Ты согласен?