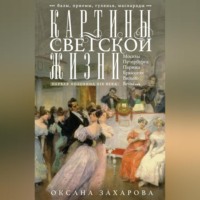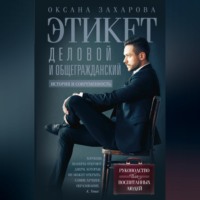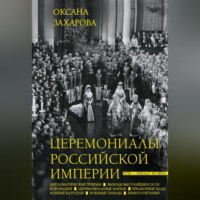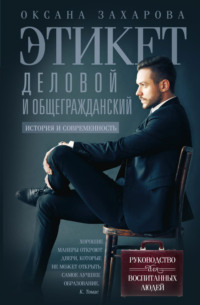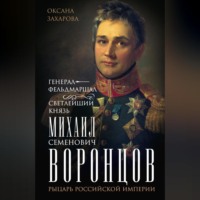Полная версия
Церемониалы Российской империи. XVIII – начало XX века
После учреждения министерств в 1802 г. возникла проблема взаимоотношений и разделения власти министерств и генерал-губернаторов: первые управляли по признаку разделения ведомств, вторые – по территориальному началу. Генерал-губернаторы не могли ограничиваться лишь надзором, как было задумано изначально, для местных властей они являлись представителями главной политической и административной власти в регионе, в то время как учрежденные министерства должны были сосредоточить всю высшую отраслевую власть.
В начале царствования Александра Павловича эти противоречия были не столь заметны, как в последующие годы. Само учреждение министерств воспринималось как продолжение политики Екатерины Великой. В 1812 г. значение поста генерал-губернатора заметно возрастает, во время ведения военных действий на территории России на нем лежала ответственность за политическое и экономическое состояние подведомственной ему территории.
Военные губернаторы предпочитали обращаться для разрешения различных проблем прямо к императору, пользуясь его особым доверием. Получив указания, они начинали действовать и лишь затем ставили в известность о проводимых ими мерах министерства, которые видели в этом прямое нарушение порядка подчинения и ведения дел. «Чем энергичнее был военный губернатор, чем большим доверием у Государя он пользовался, тем чаще были столкновения, и замечательно, что в царствование Александра I столкновения эти чаще всего происходили между министром финансов и начальником областей»[168].
Как и в правление Екатерины Алексеевны, при Александре Павловиче генерал-губернаторами были лица, пользовавшиеся его полным доверием, например: граф М.А. Милорадович в Петербурге; граф Ф.В. Ростопчин в Москве; герцог А.Э. Ришелье, генерал А.Ф. Ланжерон и граф М.С. Воронцов в Одессе; А.П. Ермолов на Кавказе. Западные губернии в конце царствования находились в ведении цесаревича Константина Павловича.
Видные представители петербургской бюрократии М.М. Сперанский, Н.Д. Гурьев, Е.Ф. Канкрин были в целом против разделения России на генерал-губернаторства. Большинство министров являлись врагами такого управления страной, нарушавшего их права и дававшего возможность вмешиваться в их дела генерал-губернаторам. Централизация управления при этом бесспорно страдала, но централизация управления и не была идеалом императора Александра I, во вторую половину своего царствования слишком хорошо понимавшего, что различные части империи стоят на совершенно разных ступенях развития культуры и имеют много исторических особенностей[169].
Деятельность генерал-губернаторов способствовала некоторой децентрализации управления: присутствие их в провинции ослабляло власть центральных учреждений, как бы приближая население к источнику верховной власти; их власть могла быть своеобразной корректировкой власти министерской, слишком отдаленной: «министр был представитель интересов дела, генерал-губернатор – интересов края»[170].
В целом права и обязанности генерал-губернатора первой четверти XIX столетия можно определить следующим образом:
– генерал-губернатор – высший блюститель законности в своем регионе, контролировавший действия всех подведомственных ему лиц для предупреждения (а если возможно, для прекращения) нарушения законов;
– генерал-губернатор наблюдал за правильным рассмотрением дел в местных судебных инстанциях; его мнение учитывалось при составлении законов и принятии временных мер;
– генерал-губернатор имел право обращаться непосредственно к императору по вверенным ему делам;
– никакие представления гражданских губернаторов, кроме срочных ведомостей, не поступали к министрам, минуя генерал-губернаторов;
– генерал-губернатор должен был получать копии всех приказов министров для гражданских губернаторов, чтобы контролировать исполнение.
Присутствие генерал-губернатора являлось своеобразным гарантом судебно-правовой дисциплины в отдельных местностях. Анализируя документы канцелярии Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора[171] и рапорты Черниговского, Полтавского и Харьковского генерал-губернатора[172], мы видим, что практически каждое дело, интересы какой бы социальной группы оно ни затрагивало, направлялось генерал-губернатору.
Генерал-губернатор в одном лице представлял интересы всех министерств, он решал различные проблемы или просил высочайшего разрешения для связи с соответствующими инстанциями. В особых случаях генерал-губернатор отдавал самостоятельные приказы под свою ответственность, наконец, подобно министру, генерал-губернатор подавал на высочайшее рассмотрение и сообщал центральным властям подробные сведения о состоянии губернии и свои предложения по различным вопросам. При этом круг интересов, рассматриваемых генерал-губернатором, весьма обширен, в его ведении находились проблемы полицейских и судебных учреждений, вопросы экономики и административного управления.
Политический характер власти генерал-губернаторов заключался в следующем: через генерал-губернаторов правительство проводило законы и распоряжения; генерал-губернаторы направляли деятельность местной администрации согласно распоряжениям высших властей; в свою очередь, правительство узнавало от генерал-губернаторов о потребностях края[173].
Практически до середины XIX столетия, несмотря на выход отдельных указов, генерал-губернаторы (наместники) руководствовались в своих действиях практической необходимостью, примерами деятельности генерал-губернаторов (наместников) других регионов и так называемыми наставлениями правительства.
Между собой наместники общались как «полусуверенные государи». Наместник, по сути, являлся главным управителем внутренних и внешних подчинявшихся ему губерний.
Результаты функционирования данного института государственной власти во многом зависели от субъективного фактора, то есть от личности наместника (генерал-губернатора), его социального положения, воспитания, образования, черт характера. Начиная с Екатерины Великой этот пост занимали в большинстве своем выдающиеся государственные деятели России: Потемкин, Суворов, Румянцев, Мельгунов, Куракин, Репнин, Сперанский, Кауфман, Воронцов, Бибиков, Безак и другие.
Можно не сомневаться, что на определенных исторических этапах жизни Российской империи введение поста генерал-губернатора и предоставление ему особых полномочий было необходимым условием успешного развития конкретных регионов империи[174].
* * *Кавказ хранит на своей земле следы глубокой древности. Почти все народы Старого Света, передвигаясь из Азии в Европу, оставляли на Кавказе поселения, которые, смешиваясь между собой и местными племенами, образовали множество типов языков. «Многоязычный Кавказ», «муравейник народов» – так назвали эту землю. Могущественные нации древности – финикияне, египтяне, греки, римляне, арабы – стремились основать здесь колонии и, поселившись, распространяли среди жителей свои языки, нравы, верования. Поэты, писатели древних времен воспевали красоты этой земли, храбрость, свободолюбие ее обитателей.
К началу 40-х гг. XIX столетия Россия на протяжении нескольких десятилетий вела на Кавказе непрерывные военные действия. «Закавказская Россия», состоящая из народов, имеющих различный общественно-экономический уклад, требовала выработки более глубокой и действенной административной системы. Сложность и многоступенчатость аппарата управления, медлительность делопроизводства, увеличение расходов заставили правительство Николая I вспомнить и апробированную административную форму – кавказское наместничество, впервые организованное в 1785 г. Оно состояло из Екатеринодарского, Кизлярского, Моздокского, Александровского и Ставропольского уездов. Затем территория наместничества значительно расширяется и согласно Положению о разделении Закавказского края 1846 г. к вышеуказанным областям влияния наместника добавляются губернии Тифлисская, Кутаисская, Шемахинская, Дербентская и с 1849 г. – Эриванская.
27 ноября 1844 г., находясь в Алупке, генерал-губернатор Новороссийского края и Бессарабской области М.С. Воронцов (1782–1856) получил личное послание императора, в котором тот сообщил ему об обострении ситуации на Кавказе, где к прежним проблемам края прибавилась еще одна, быть может, самая опасная – среди разобщенных племен, не знавших одной власти, появился лидер, сплотивший всех под своим началом.
Как известно, бороться с объединившимся противником несравненно труднее, чем с разобщенным.
«…Считаю нужным избрать исполнителем моей непременной воли лицо, облеченное всем моим неограниченным доверием и соединяющее с известными военными доблестями опытность гражданских дел, в сем поручении равномерно важных»[175], – писал Николай Павлович Воронцову, подчеркивая при этом, что ввиду особого уважения к графу М.С. Воронцову желает узнать мнение по этому поводу и только затем обнародовать приказ о его назначении.
Как вспоминал впоследствии М.П. Щербинин, прочитав письмо, Михаил Семенович сказал: «Государю угодно меня назначить на Кавказ; но могу ли я, при настоящем положении этого края, принесть ему какую-либо пользу? Я стар и дряхл; тут нужны силы свежия, не изнуренныя летами и трудами. Я должен отклонить от себя высокое назначение, которое не в состоянии буду выполнить»[176].
Но через некоторое время М.П. Щербинин был вызван к генерал-губернатору и услышал от него слова, в которых содержится основной смысл жизненной позиции М.С. Воронцова: «Я был бы не Русский, если б посмел не пойти туда, куда Царь велит»[177]. Решение было принято.
Назначение М.С. Воронцова на Кавказ стало неожиданным даже для близкого окружения графа. Согласно воспоминаниям Н.Н. Мурзакевича, письма императора М.С. Воронцову с предложением быть наместником и главнокомандующим на Кавказе были никому не известны и до приезда графа из Алупки в Одессу это назначение держалось в тайне. М.С. Воронцов был буквально атакован просьбами военных и гражданских чинов служить при нем на Кавказе. Одних просьб об адъютантстве насчитывалось около двухсот. Между приемами просителей, чтением докладов, просьб, записок, что продолжалось обычно с шести часов утра до шести часов вечера, М.С. Воронцов вместе с Н.Н. Мурзакевичем отбирал книжные тома для городской публичной библиотеки, в результате еще 368 томов книг были оставлены в Одессе.
В январе 1845 г. Михаил Семенович выехал в Петербург, где вскоре произошло падение военного министра Позена. Современники связывали это событие с намерением министра урезать права наместника, принятые императором и изложенные в «Высочайшем рескрипте графу Воронцову от 30 января 1845 года № 18679». Они заключались в следующем:
1. Кавказская область входит в состав территории, на которую распространяется гражданское управление, и областное начальство при решении дел, превышающих его полномочия, обязано обращаться к наместнику, минуя министерство.
2. Наместник должен сам решать, прибыв на место, какие вопросы может рассматривать совет Главного управления самостоятельно, а какие имеет право утвердить лишь наместник. Причем в совете обязан присутствовать начальник гражданского управления вместо М.С. Воронцова.
3. Наместник приобретает право принимать лично на месте решения по делам, которые ранее представлялись на разрешение министерствам от Главного управления Закавказским краем. Дела законодательные подчинялись старому порядку.
4. Сверх указанных мер М.С. Воронцову предоставлялось право, исходя из необходимости, на месте принимать любые меры, донося о них лично императору.
М.С. Воронцов имел возможность самостоятельно принять практически любое решение, если этого требовали обстоятельства, и уж затем сообщить о действиях и причинах императору.
Исходя из вышеуказанного, можно говорить о еще большей децентрализации управления Кавказского края в сравнении с теми правилами, которые и были высказаны в Наказе Главному управлению Закавказским краем, изданном в 1842 г.
Данная мера позволяла, минуя многочисленные инстанции, быстрее воплощать задуманное, что еще более превращало Кавказский край в самостоятельную административную единицу.
7 марта 1845 г. было назначено время отъезда М.С. Воронцова на Кавказ. «Чудесная, весенняя, ясная, тихая погода на море, почти весь город, высыпавший на приморский бульвар и на пристань пароходную, представляли картину великолепную. Толпы простаго народа, от искреннего сердца, провожая князя, высказывали ему пожелания всяких благ. Меховая кавказская шапка, надвинутая на глаза, отчасти прикрывала слезы доброго болярина, за всех болеющаго. Такое всеобщее народное заявление начальнику края, удаляющемуся, может быть, навсегда, есть венок гражданский… – в наше время награда, выходящая из уровня всех существующих знаков отличий!»[178]
Передав управление Новороссийского края генерал-лейтенанту Федорову, граф Михаил Семенович отправился к месту своего нового назначения и 25 марта (по старому стилю) 1845 г. прибыл в Тифлис.
После приезда в 1845 г. М.С. Воронцова на Кавказ в качестве наместника в его гражданской канцелярии в Тифлисе сосредоточились все нити по управлению Кавказом, Закавказьем, Новороссийским краем. Как и при всех главнокомандующих, при М.С. Воронцове на Кавказе состояли адъютанты, имелась не только центральная в Тифлисе, но и походная канцелярия. М.П. Щербинин, управляющий гражданской канцелярией наместника, считал себя исполнителем творческих планов Воронцова, удивляясь его замыслам и той быстроте, «…с которой он разрешал самые трудные вопросы»[179].
Одним из первых донесений М.С. Воронцова было «Отношение князя Воронцова к графу Киселеву, от 8 июня 1845 года № 557». Оно касалось переселения раскольников в Закавказский край.
Воронцов просил дать ему время для активного сбора сведений о землях, пригодных для жизни переселенцев и для личного посещения некоторых поселений раскольников. К тому же М.С. Воронцов предполагал создать комиссию, которая должна была объехать селения раскольников для выяснения их нужд и потребностей. М.С. Воронцов считал, что распространение русских поселений дело чрезвычайно важное для социально-экономического развития края. Впоследствии во время приема депутации в Прочном Окопе, объезжая край, М.С. Воронцов, услышав от раскольников об их притеснениях, приказал открыть молельню и разрешить богослужение. Этот эпизод характеризует веротерпимость князя, не совсем даже согласовавшуюся с тогдашними законами. «Если бы нужно было здесь исполнение законов, – говорил Воронцов, – то Государь не меня бы прислал, а свод законов!» Эта смелая фраза, сказанная с некоторой долей вызова, еще раз напоминала о широких полномочиях, данных М.С. Воронцову императором.
М.С. Воронцов, назначенный на пост главнокомандующего Кавказской армией, не отказался от проведения военных операций в регионе. Поход к аулу Дарго в 1845 г., по-разному оцениваемый историками, был одной из первых крупных операций М.С. Воронцова на Кавказе, за что он получит княжеский титул. Но М.С. Воронцов стремился к нравственному освоению Кавказа, к естественному слиянию всех его частей с землями Российской империи, а это возможно прежде всего через социально-экономическое и культурное развитие края.
Глубоко просвещенный и всесторонне образованный человек, М.С. Воронцов в Новороссии, Бессарабской области и на Кавказе демонстрировал глубокое уважение к духовным, культурным традициям местного населения, стремился к установлению самых дружеских отношений с представителями различных религиозных конфессий.
М.С. Воронцов понимал, что поддержка религиозных деятелей была лучшей гарантией в деле налаживания дружественных отношений с представителями различных национальностей края, в котором при М.С. Воронцове «все церкви, христианские и не христианские, свободно в нем существуют и находят в правительстве всегдашнее покровительство»[180]. Одним из главных принципов, которым руководствовался М.С. Воронцов в вопросе национальных взаимоотношений, была его уверенность, что он должен делать все от него зависящее, чтобы граждане края своим мирным трудом способствовали развитию региона.
Князь М.С. Воронцов помогал просвещенным трудам экзарха Грузии Исидора, впоследствии санкт-петербургского митрополита, к которому, по словам современника, он питал глубочайшее уважение. Сооружались новые и восстанавливались древние христианские храмы. Так, в 1853 г. князь Г.Г. Гагарин расписывает Сионский кафедральный собор экзархов Грузии, начало сооружения которого относится к царствованию Вагтанга Горгасала (V в.), а окончание к первой половине VII в. Храм, хранивший величайшую святыню Грузии – крест Святой Нины, сделанный из двух кусков виноградной лозы и перевитый, по преданию, волосами просветительницы Грузии, неоднократно разрушался.
Князь Гагарин, ставший в 1859 г. вице-президентом Академии художеств (занимал этот пост до 1872 г.), был поражен в свое время величием византийского искусства и в поисках его образцов изъездил европейскую и азиатскую Турцию и Италию. Он расписывает Сионский собор в византийском стиле, применив впервые в России так называемый энкаустический способ фресковой живописи – краски приготовлены из особой мастико-восковой эссенции. Князем составлены планы церквей на Кавказе: в Хасавюрте, Дербенте, Кутаиси, Грозном, Тифлисе (военный собор и гимназическая церковь), Боржоми и в других местах края.
Многосторонне образованный человек, остроумный рисовальщик, Гагарин поступил в 1848 году под начало князя М.С. Воронцова, принимал участие в военных экспедициях, удостоившись впоследствии чина генерала.
Как было упомянуто выше, оказавшись на Кавказе, М.С. Воронцов продолжал вести военные операции, в большинстве которых принимал личное участие, удивляя окружающих своей выдержкой и храбростью. «Воронцов был действительно русским солдатом, и таким, каким дай Бог много! Я отроду не встречал такой холодной и беззаботной храбрости. Сколько раз мне случалось видеть Воронцова в схватках с горцами. Всюду впереди, он отдавал приказания, шутил, улыбался и нюхал табак, точно у себя в кабинете»[181]. Эти слова графа Соллогуба созвучны с мнением князя А.И. Барятинского, победителя Шамиля: «…храбрость эта была истинно джентльменская, всегда спокойная, всегда ровная. Часто случалось, что во время сна главнокомандующего раздавалась тревога в самой главной квартире. Князь Воронцов просыпался, спокойно вынимал шашку и спокойно говорил: «Господа, будем защищаться»[182].
Но, стремясь к нравственному освоению Кавказа, он был уверен, что, лишь делая добро краю, можно приблизить его к России. То есть изучив историю, культуру, природные ресурсы этой земли, развивая промышленность, торговлю, сельское хозяйство. Деятельность М.С. Воронцова в этих направлениях была огромна.
М.С. Воронцов с рвением занимался устройством дорог, он, один из первых начавший завоевание Кавказа с помощью топора; были построены мосты на реках Куре и Тереке, Сунже, Лабе, Белой; положено начало пароходным сообщениям по Черному и Каспийскому морям и по реке Куре; проведено размежевание закавказских земель; устроение в 1850 г. Оллагирского сребро-свинцового завода. Так же как и в Новороссии, М.С. Воронцов заботился о развитии в крае виноградарства, виноделия, шелководства, коневодства и других направлений в сельском хозяйстве. Одной из главных сфер деятельности князя было и развитие просвещения, науки, искусства. Будучи прекрасно образованным человеком, он стремился к развитию культуры и в Новороссии и на Кавказе, считая, что это содействует улучшению нравов в обществе, без чего невозможно ведение никаких дел. Так, в Тифлисе в 1848 г. начинает издаваться газета «Кавказ», преобразуется «Закавказский вестник», заменивший для всех закавказских губерний «Губернские ведомости». Совокупное действие четырех газет в Одессе и Тифлисе приблизило отдаленные территории Новороссии и Кавказа к России. Успех «Новороссийского календаря» побудил М.С. Воронцова издавать в 1847 г. подобный в Тифлисе. Календарь содержал богатый исторический, географический, топографический и другой материал, собранный талантливыми и трудолюбивыми людьми.
Он учреждает при канцелярии наместника библиотеку из книг, пожертвованных им самим, частными лицами, присланных из разных университетов. Подготовив достойное здание, в 1859 г. в Тифлисе открывают Публичную библиотеку, что для многоязычного разноплеменного края было событием.
Владея древними языками – латинским и греческим, еще в детстве зачитываясь древними классиками, М.С. Воронцов прекрасно осознавал важность изучения древних цивилизаций на территории Кавказа. В 1846 г. в Тифлисе при наместнической канцелярии было положено начало местной нумизматической коллекции. Труды известных ученых, приглашенных князем, внесли неоценимую роль в изучение Кавказского края.
Для научного подхода к развитию сельского хозяйства в 1850 г. в Тифлисе учреждено Закавказское общество сельского хозяйства, подобное обществу сельского хозяйства Южной России, открытому М.С. Воронцовым в 1828 г. в Одессе. В 1850 г. на Кавказе было положено начало кавказскому отделу Русского географического общества: магнитной и метеорологической обсерватории; составлен план восхождения на Арарат.
По прибытии в Тифлис Воронцов учредил мусульманское училище Алиевой секты, основал в 1849 г. отдельный кавказский учебный округ; преобразовал и открыл уездные училища во многих городах.
При участии супруги М.С. Воронцова Елизаветы Ксаверьевны были открыты для дочерей недостаточно обеспеченных семей заведения Святой Нины в Тифлисе, Кутаиси, Шамахе, Святой Александры в Ставрополе, Святой Рипсилии в Ереване.
Уже после смерти Воронцова Елизавета Ксаверьевна пожертвовала 200 тыс. руб. серебром на пять основанных ею женских благотворительных учреждений с выдачей при выпуске каждой воспитаннице 200 руб. пособия.
М.С. Воронцов отправлял специалистов для исследований малоизученных областей Кавказского края. Так, академик Г.В. Абих совершал путешествие по Кавказу и на Арарат, И.А. Бартоломей – по всему Кавказу; академик М.И. Броссе – по Грузии, Кахетии.
Ученые, военные, чиновники, художники, литераторы, приезжая в то время на Кавказ, в большинстве своем останавливались в Тифлисе, как в резиденции наместника, к тому же многие были лично приглашены Воронцовым, человеком, умевшим ценить и приближать людей способных, трудолюбивых и исполнительных. «От самого обнищавшего туземца до горделивой княгини, ведущей свой род от царя Давида, все невольно покорялись воронцовской обаятельности и умению приласкать и покорять людей… Общество русское, хотя тогда еще небольшое, было тем не менее в Тифлисе избранное; общество туземное… с каждым днем все более и более примыкало к нему»[183].
Согласно воспоминаниям современников, с приездом М.С. Воронцова в Тифлис жизнь города начала приобретать иной склад и характер, отличный от прежнего.
Люди, прибывшие с князем в 1845 г. в Тифлис и приезжающие впоследствии из столиц, вносили в жизнь города новые понятия, новые взгляды. Европейская культура постепенно начала теснить восточную патриархальную обстановку. Модистки из Одессы и Парижа прививали вкус к европейским туалетам, постепенно заменяющим грузинские чадры и шелковые платья. Куафер Влотте, приехавший в Тифлис с ножницами и гребенкой, открывает огромный магазин и модное ателье. «На левом берегу Куры образовывались целые новые кварталы до самой немецкой колонии со всеми условиями европейского города, особенно с устройством нового Воронцовского моста, взамен прежняго… [Князь и княгиня] давали пример своею домашней обстановкой простоты и не особенной изысканности. В доме главнокомандующего оставалась та же казенная меблировка; стол князя, всегда впрочем вкусный, не отличался никакою изысканностью, вино подавалось кахетинское или крымское; в походе же и в дороге князь решительно ничем особенно не отличался от прочих, разве только в размерах широкого своего гостеприимства и обаяния своего простого и приветливого со всеми обращения… Именно вследствие естественной простоты его всякий сознавал невольно, что он принадлежит к другому высшему кругу, как по понятиям, так по нравам и привычкам прошлого»[184]. С годами доброта князя к некоторым лицам стала доходить до крайности, он не мог отказывать слишком настойчивым просителям, чем не замедлили воспользоваться многие из тех, кто последовал в Тифлис, узнав о назначении М.С. Воронцова. Но в целом тифлисское общество тех лет состояло из людей ярких, незаурядных личностей, многие из которых по праву вошли в историю Грузии и России.
Одной из первых мер в гражданском управлении Кавказским краем было назначение князя В.О. Бебутова начальником Закавказского гражданского управления и председателем совета Главного управления. Человек редкого ума, преданный верховной власти, замечательно образованный и опытный правитель, князь В.О. Бебутов был прекрасной кандидатурой на этот пост, к тому же при грузинских царях должность тифлисского полицмейстера была наследственной в семействе Бебутовых; поэтому назначение князя Василия Осиповича льстило, с одной стороны, непомерному природному самолюбию армян, с другой стороны, не возбуждало негодование грузинской аристократии, видевшей в этом возвращение к правилам управления ее царей. Таким образом, выбор удачной кандидатуры позволял М.С. Воронцову быть в курсе проблем края и одновременно льстил интересам местной аристократии. Этому способствовало также назначение начальником Тифлисской губернии сына любимой дочери последнего грузинского царя, генерал-майора князя Ивана Малхазовича Андронникова, уступавшего в образовании князю В.О. Бебутову, но бывшего добросовестным, исполнительным губернатором. Талантливый руководитель умеет создавать вокруг себя окружение, способное практически в любой ситуации находить выход из создавшегося положения.