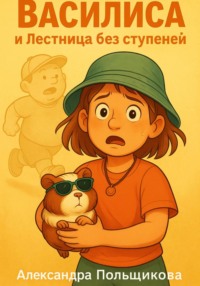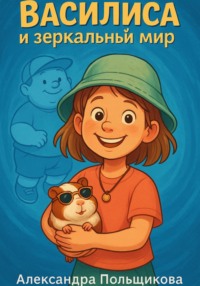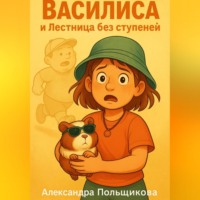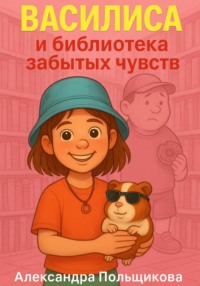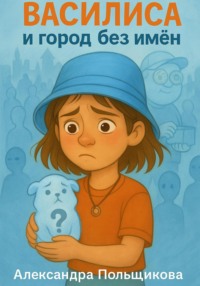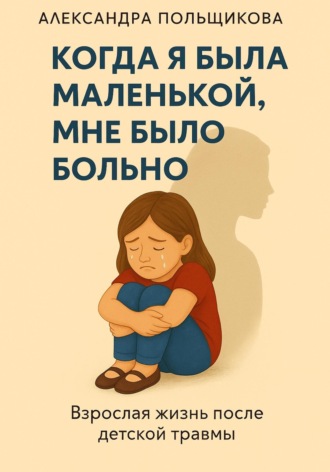
Полная версия
Когда я была маленькой, мне было больно
Это не быстрый путь. Но в какой-то момент вы почувствуете: «Я просто есть. И этого достаточно».
И это будет – как вдох после долгого сдержанного дыхания.
1.2 Что такое травма развития?
Травма – это не всегда про катастрофы. Не всегда про побои, сиротство, войны и громкие трагедии. Иногда – это про дом, в котором было слишком тихо. Про родителей, которые были рядом, но будто не видели тебя. Про детство, которое выглядело «нормальным», но почему-то и сейчас отзывается болью.
Развитие – это не просто рост. Это путь от полного доверия миру к ощущению: «я есть», «я важен», «мне можно». И если на этом пути рядом не было тёплого, стабильного взрослого, который видит и принимает, развитие превращается в выживание. Тогда мы имеем дело с травмой развития.
В терапии говорят: травма – это не то, что с нами случилось, а то, что осталось после этого. Травма – это не событие. Это отсутствие. Это не просто боль, а одиночество с болью. Когда нет рядом того, кто поможет вынести, понять, переварить. Когда ты – один на один с тем, для чего психика ещё не готова.
Ты не можешь выразить словами, но уже чувствуешь себя лишним, неудобным, невидимым.
Мы не будем сравнивать боль. Важно лишь одно: травма – это разрыв между тем, что нужно было ребёнку, и тем, что он получил. И если тебе знакомо ощущение «что-то во мне надломилось в детстве» – возможно, это именно она. Та, что спряталась за «характером», успехами, сарказмом или привычкой говорить «всё нормально». Но она всё ещё с тобой. Тихо ждёт, когда ты сможешь выбрать не выживание, а жизнь.
В этом разделе мы разберём:
– Почему травма чаще – это отсутствие, а не событие
– Как формируется психика в небезопасной среде, даже если внешне всё выглядело «нормально»
Если ты готов – давай пойдём туда. Медленно. С уважением к себе.
НЕ ВСЕГДА СОБЫТИЕ. ЧАЩЕ – ОТСУТСТВИЕСлово «травма» вызывает в воображении что-то явное: аварии, развод, насилие. Но чаще всего мне попадаются люди, у которых не было «громких» событий. Они говорят: «Мне вроде бы нечего вспоминать, но внутри пусто».
Это – травма отсутствия. Она не зафиксирована в дневнике, о ней не расскажут соседи. Но она пронизывает человека.
Когда: тебя не слушали по-настоящему, но спрашивали «Как дела?», ты делился болью, а в ответ – «Перестань, не драматизируй», ты приносил рисунок или пятёрку, а взрослый не отрывался от телефона, ты плакала, а тебе говорили: «Ничего не случилось», тебя хвалили за успехи, но не за то, кто ты есть, взрослые были рядом телом, но не душой.
Это не про то, что у тебя что-то отняли. Это про то, что тебе не дали.
Не дали эмоционального отклика. Уверенности, что ты нужен. Ощущения, что тебя любят просто так. В таких семьях всё внешне «в порядке», но внутри – пустота. Дисциплина важнее чувств. Чувства неуместны. Ребёнок учится не доверять себе, а подстраиваться.
Он решает: «Раз мне плохо, а никто не замечает – значит, со мной что-то не так». Он учится не чувствовать. Не злиться. Не просить. Просто быть удобным. А внутри остаётся базовое ощущение: меня не выбирают. Я не важен. Меня можно не замечать.
Это не про логику. Это про то, как сформировалась психика.
От этой травмы не избавишься, если её не признать. Пока человек обесценивает свой опыт – он не может исцелиться. Но у него есть право на боль. И на заботу о себе.
Отсутствие любви – это не «ничего». Это тоже опыт. И он может быть разрушающим. Если нет ощущения нужности, психика будет искать, как выжить. А не как жить.
Так взрослая женщина может бояться близости. Выбирать тех, кто снова её не выбирает. Пугаться радости. И не понимать – почему. Потому что боль, которую она не могла назвать, продолжает жить внутри. И просит быть услышанной.
КАК ФОРМИРУЕТСЯ ПСИХИКА В НЕБЕЗОПАСНОЙ СРЕДЕ?«Почему мне тяжело с доверием, с близостью, с собой?» – этот вопрос часто приводит в терапию. И почти всегда ответ лежит в прошлом. Там, где взрослые были рядом, но не были опорой. Где атмосфера важнее событий. Где детская психика не развивалась – а выживала.
Психика ребёнка – как влажная глина. Она лепится в ответ на атмосферу. Если рядом тепло, внимание, принятие – психика учится: «мир безопасен». Если рядом тревога, холод, угроза – психика учится защищаться.
Я это знаю. Я была «неудобным» ребёнком. Со мной ругались, кричали, наказывали. Мой папа часто ставил меня в угол. Иногда на час. Иногда – на полдня. Иногда – несколько раз в день. Я проводила всё своё детство в этом углу, словно отрезанная от мира. Мне казалось, что это норма. Но теперь я знаю – это не было нормальным. Потому что угол – это не про воспитание. Это про одиночество. Про то, что тебя изолируют в момент, когда ты больше всего нуждаешься в понимании. Это про стыд, который въедается в тело. Про тревогу: «я плохая». И когда наказание становится ежедневным фоном – психика не развивается, она защищается.
Небезопасная среда – это не обязательно насилие. Это когда взрослый пугает молчанием. Когда ты не знаешь, будет мама сегодня добрая или нет. Когда любовь надо заслужить. Когда обнимут – а через минуту накажут.
Что делает психика? Учится быть гиперчуткой. Прячется, сканирует, адаптируется. Живёт не в моменте, а в напряжении. Так формируется стиль жизни: не «я есть», а «как бы меня не отвергли».
Я знаю многих женщин, которые выросли в атмосфере, где чувства – табу. Где «не плачь» – это не поддержка, а запрет. Где обида считалась предательством. Где нельзя было быть собой.
На чём держится такая психика? На гиперконтроле. На подавлении эмоций. На страхе быть собой. На вине за всё. На хроническом напряжении.
Когда нет доверия – появляется тревога. А за ней – усталость, апатия, аутоагрессия.
И вот ты взрослая. Всё умеешь. А внутри – девочка, которой не хватило простого: «Ты важна. Ты можешь быть собой».
Кто-то из нас становится «идеальной». Кто-то – рассыпается. Но и те, и другие – выживают в травме, которая была не событием, а атмосферой.
Небезопасная среда сжимает личность. Но ты уже взрослая. Ты можешь дать себе то, чего не хватило. Ты рядом с собой.
И именно туда мы сейчас и пойдём. В сторону опоры. В сторону жизни.
1.3 Тело помнит: тревога, ком в горле, утомление
Иногда мне кажется, что тело – это живой дневник. Не бумажный, не цифровой – а тот, в котором записано всё, о чём нельзя было сказать вслух. Туда, где нельзя было быть слабой, грустной, растерянной, попадало то, что невозможно было выразить словами.
Когда я была ребёнком, у меня не было хронических болезней. Но были странные, пугающие симптомы: я задыхалась ночью, внезапно сжималось горло, руки дрожали, в груди будто камень. Врачи разводили руками: «Здорова». А мне было невыносимо. Сейчас я понимаю – моё тело говорило за меня то, что я не могла произнести.
Позже, уже став взрослой, я встречала множество женщин, у которых «всё в порядке» по анализам, но при этом они живут в постоянной усталости, с болями, тревогой, внутренним напряжением. Я слышала за этими симптомами одно: память тела.
Психика и тело неразделимы. Всё, что не нашло выхода через слёзы, слова, осознание – находит другой путь. И часто этим путём становится тело.
Мы научились отключать чувства, чтобы выжить. Заткнули себе рот, когда слышали: «Не ной». Перестали плакать после слов: «Ты же не маленькая». Становились «девочками с характером», но внутри всё застывало и сжималось.
Когда женщина говорит: «Мне тяжело дышать рядом с мамой» или «Я задыхаюсь перед встречей с начальником», – я не думаю, что у неё проблема с лёгкими. Я думаю: её тело знает то, что она давно перестала чувствовать.
Тело – не просто оболочка. Это носитель нашей внутренней хроники. Оно помнит:
где было страшно, где нельзя было быть собой, где хорошая девочка должна была держать всё в себе. Когда чувства не прожиты – они превращаются в симптомы.
КАК ПСИХИКА УХОДИТ В ТЕЛО?Иногда я смотрю на себя в зеркало и думаю: сколько всего моё тело носило на себе, пока я этого не осознавала?
Когда ребёнок переживает сильные чувства – страх, стыд, одиночество – но не может их выразить, психика делает единственное, что может: запечатывает это в теле. Это древний способ выживания. Если в детстве было «опасно» быть уязвимой, злиться, плакать – психика замолкает. А тело – сжимается, замирает, напрягается.
Я много раз работала с женщинами, у которых были: упадок сил без причины, ком в горле,
мигрени, боли в челюсти и плечах, учащённое сердцебиение при обычных разговорах. И почти всегда за этим стояли не болезни, а непрожитые чувства.
Вместо того чтобы плакать – мы стискиваем зубы. Вместо того чтобы бояться – напрягаем спину. Вместо того чтобы злиться – сжимаем желудок. Это становится нашей нормой:
– «Я просто не умею расслабляться»
– «У меня всегда болит шея – привычка»
– «Иногда задыхаюсь – со всеми бывает»
Но ненормальное становится нормой, если его не замечать. Тело продолжает хранить боль – до тех пор, пока мы не начнём слышать его.
Иногда человек в терапии впервые за двадцать лет позволяет себе поплакать – и уходит головная боль. Иногда, когда человек вслух произносит: «Мама меня не принимала», – он вдруг замечает: «А я дышу глубже». Это не мистика. Это – психосоматика. Тело слышит. И может отпустить – если его услышать в ответ.
СИМПТОМЫ, КОТОРЫМ НЕТ ДИАГНОЗАЕсть такая боль, которую не обнаружишь ни на МРТ, ни в анализах. Она – на границе между психикой и телом. И говорит на своём, особом языке.
Если тебе плохо, а «всё в норме» – это не значит, что ты всё придумала. Это значит: боль говорит не медицинским, а психологическим языком.
Я помню женщину – назовём её Мария. Она пришла ко мне и сказала: – «Я встаю уже уставшей. Анализы в норме. Врачи говорят: стресс».
А на втором сеансе, заплакав, она сказала:
– «Мне всегда казалось, что мама живёт так, будто меня нет. Будто я мешаю».
Её утомление было не про тело. Оно было про многолетнее внутреннее напряжение: быть незаметной, не мешать, не раздражать.
Вот некоторые симптомы, за которыми часто стоит не болезнь, а непрожитый опыт: хроническая усталость, расстройства сна, ком в горле, панические атаки, боли в спине и шее, тревожность без причин, отсутствие аппетита или переедание, частые простуды, головные боли при стрессе. Эти симптомы реальны. Но за ними часто стоит история: про девочку, которой говорили: «Это ерунда»; про подростка, которому говорили: «Ты слишком чувствительная»; про женщину, которая десятилетиями пыталась быть «удобной».
Иногда тело – единственное, кто не согласен молчать. Оно начинает говорить:
– «Посмотри. Заметь. Ты не в порядке. Это важно».
Терапия начинается с признания боли. Не через логику. А через ощущение: «Это было. Это важно. Я больше не буду это отрицать».
И тогда боль начинает отступать. Шаг за шагом. Без давления. Через честность. Через заботу. Через право быть собой.
Ты не надумала. Ты не странная. Ты – живая. Ты просто долго жила в мире, где чувства было небезопасно показывать.
Теперь можно. Теперь ты рядом с собой. И ты не одна.
1.4 Стыд, вина и невозможность плакать
Есть чувства, от которых хочется отвернуться. Стыд – обжигающий, как кипяток. Вина – липкая, как паутина. Слёзы – застывшие внутри, потому что однажды ты решила (или решил): «Если я заплачу – меня не поймут. А может, и бросят».
Мы привыкли прятать глаза. Отводить разговор. Говорить: «Да всё нормально», даже когда внутри – цунами. Это не просто привычка. Это след – от того, как нас учили чувствовать. Или точнее – не чувствовать.
– Не ной.
– Что ты опять раскисла?
– Стыдно должно быть!
– Терпи, ты же сильная.
– Перестань злиться, как маленькая.
– Ты что, неблагодарная?
Каждая такая фраза – как тихий укол. Как будто чувства – это что-то лишнее. Как будто плакать – значит быть слабым. Как будто быть живым – неправильно.
В этом разделе – о том, как и зачем нас стыдили, почему нам запрещали злиться и грустить, и как это сделало нас чужими самим себе. Мы разберём, откуда берётся невозможность плакать – даже когда очень хочется. И почему взрослые продолжают жить с детским стыдом, который мешает радоваться, просить помощи, говорить «нет» и быть собой.
Ты не виновата, если стыд стал твоей тенью.
Ты не слабый, если не можешь заплакать.
Ты не испорченная, если постоянно чувствуешь вину.
Это не ты сломана. Это когда-то сломали мост между тобой и твоими чувствами. Но его можно восстановить. С бережностью. С собой. С теплом.
ПОЧЕМУ НАС УЧИЛИ: «НЕ НОЙ», «ТЕРПИ», «НЕ ЗЛИСЬ»?Если тебе когда-то говорили: «Чего ты разнылся?» или «Слёзы тут не помогут», или просто молча отворачивались, когда тебе было плохо – ты не один.
Для многих из нас выражать эмоции стало почти опасным. Детство часто было не местом, где чувства утешали, а полем, где за них могли наказать. Иногда – молчанием. Иногда – упрёком. Иногда – исчезающей любовью.
Почему так происходило? Потому что наших родителей тоже не учили быть в контакте со своими чувствами. Их воспитывали в атмосфере: «не позорься», «не злись на старших», «будь тише».
Они передали то, что сами выучили ради выживания. Для многих из них сдержанность была единственным способом остаться в безопасности: в коммуналке, в семье, где «я тебя люблю» не говорили вслух.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.