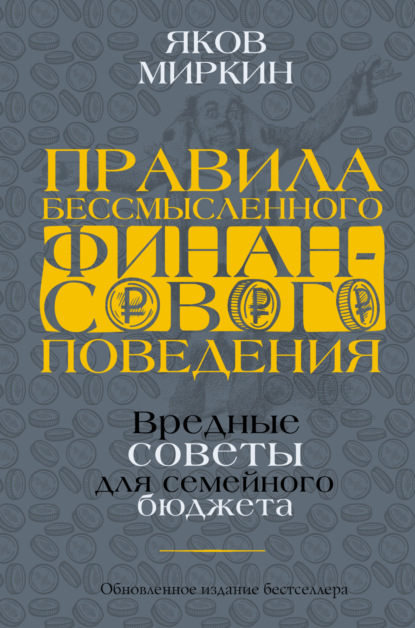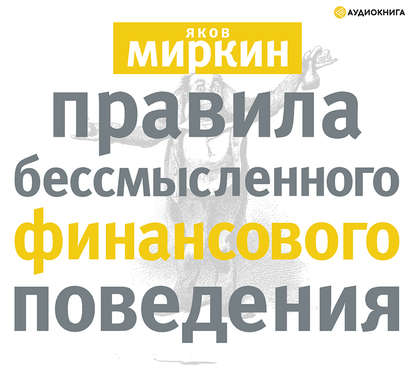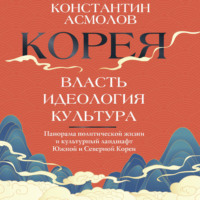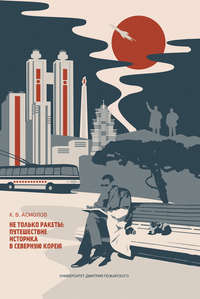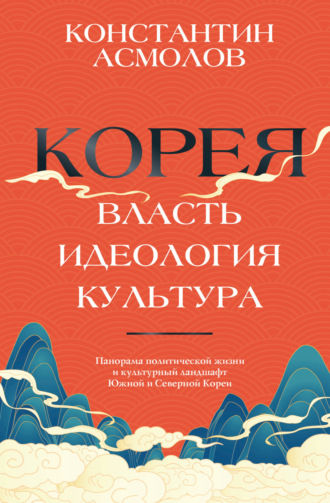
Полная версия
Корея. Власть, идеология, культура
О судьбе незаконнорожденных отпрысков знатных фамилий расскажем подробнее. Многие, наверно, помнят фильм «Хон Гиль Дон», повествующий об участи незаконнорожденного сына знатного дворянина. Проблема таких детей была действительно очень важной и очень болезненной, и автор известного широкому читателю «Сказания о Хон Гиль Доне» поплатился головой за это произведение, которое было воспринято наверху как жесткая социальная сатира. Хотя в действительности большинство незаконнорожденных детей янбанов уходило не в разбойники или даосские маги, а пополняло ряды так называемых «чунъин», что часто переводят как «средний класс», однако надо знать, что они составляли около 1 % населения. Чунъин были врачами, переводчиками, юристами и в условиях конфуцианской системы играли роль как бы «технических специалистов», характер знаний которых имел меньший приоритет, чем умение цитировать на память конфуцианские трактаты.
Бюрократический аппарат, структура которого не особенно менялась со времен Корё, был достаточно развит. Ли Ён Хо определяет количество чиновников времен поздней династии Ли в 14 тыс. человек. Цифра эта кажется невысокой, но дело в том, что чиновники редко удерживались на своих постах длительный срок. Г. Хендерсон приводит несколько примеров, из которых наиболее ярким является тот, что за 518 лет правления династии Ли губернатор Сеула назначался 1375 раз, 5 сеульских градоначальников были сняты в день назначения, 10 пробыли на этом посту два дня, а 11 – целых три. Примерно такая же министерская чехарда была характерна для всех высших постов. Это было связано как с практикой недоверия, так и с тем, что занявший хотя бы на месяц престижный пост чиновник получал полный набор прав и привилегий, связанных с полученным рангом, в том числе право занимать посты, для которых наличие этого ранга было обязательным. Отсюда – желание властей «пропустить» через высшие должности как можно больше дворян, дав им таким образом возможность подтвердить свой привилегированный статус.
Оставляя в стороне критику таких кратковременных назначений, обратим внимание на еще один из ее корней – конфуцианскую традицию, в рамках которой считалось, что человек, обладающий высокими добродетелями, мог одинаково хорошо руководить чем угодно. Специализированной, отраслевой подготовки чиновников не было. Чиновника, как гражданского, так и военного (большая часть военной карьеры адмирала Ли Сун Сина прошла не во флоте), могли свободно перебрасывать с одного направления деятельности на другое. Как следствие этого незаменимых людей или узких профессионалов в той или иной области не было.
Подытоживая, хочется отметить, что корейская бюрократическая система обладала рядом структурных проблем, связанных как с низким средним качеством чиновников (подготовка которых эволюционировала в сторону подготовки начетчиков), так и с перекрытым социальным лифтом. Не работала и система обратной связи, которая формально существовала в форме секретных инспекций. В отличие от коллизии из «Повести о верной Чхунхян», в реальной Корее тайный ревизор был самым ненавидимым типом чиновника, который обычно сразу же являлся к губернатору провинции, предъявлял полномочия и объяснял, сколько стоит его положительный отзыв.
Третьей чертой можно назвать внешнюю зависимость, преувеличенную тягу к копированию внешних образцов и определенное упование на помощь сюзерена. В традиционной Корее таким сюзереном, безусловно, был Китай. Однако после открытия страны у нее появились новые «образцы для подражания».
Четвертой чертой я назвал бы ослабленную роль военных, которая была вызвана как конфуцианским отношением к войне (решать проблемы военными методами считалось моветоном), так и внутренней ситуацией, когда в условиях той политической стабильности, на фоне которой существовала династия Ли[14], армия была нужна или для подавления крестьянских бунтов, или служила лейб-гвардией, находящейся в столице для предотвращения (или осуществления) дворцовых переворотов. В случае же более серьезной угрозы всегда можно было попросить о помощи «старшее государство», как это было, например, во время Имчжинской войны.
Так как страна не испытывала постоянной военной угрозы, не было необходимости поддерживать и постоянно высокий уровень боеготовности. Более того, отсутствие всякой серьезной военной активности порождает иллюзии отсутствия необходимости в активной и боеспособной армии, а воинская традиция останавливается в своем развитии.
Отношение к конфуцианству после 1948 г.Несмотря на воспитание, Пак Чон Хи не был убежденным поклонником конфуцианства и не пропагандировал это учение в качестве главной причины экономического прогресса Кореи, как это делал, например, президент Сингапура Ли Куан Ю. К конфуцианским правилам и церемониям Пак относился довольно пренебрежительно, а в его работах (особенно первых лет) можно встретить критику конфуцианского догматизма как одной из причин отсталости страны. Однако он же говорит и о важности коллективизма, и о внимании к таким важнейшим для конфуцианства добродетелям, как преданность государству и сыновняя почтительность, которые, по его мнению, прекрасно вписываются в современные стандарты этики.
Чон Ду Хван критиковал Запад и США, где закон вытеснил моральные нормы и ценности, остающиеся приоритетными для корейского общества, однако, с точки зрения обращения к традиции, скорее покровительствовал «родноверам». Похожие заявления проявляются и у Ким Ён Сама, который говорил о том, что демократизация вызвала «фонтанообразный „выброс“ экономических нужд и требований и взрыв группового эгоизма», и чрезмерный акцент на достижение индивидуальных устремлений в ущерб общественным должен быть ликвидирован. Демократию Ким Ён Сам рассматривает тоже в традиционных конфуцианских терминах: демократичное общество в его представлении – то, где «воля народа» отождествляется с «волей небес».
Ким Дэ Чжун часто воспринимается как противник концепции «азиатских ценностей», которые он называл мифом, выдвинутым противниками модернизации стран Азии, но проведенный М. Резановой анализ его публицистики позволяет увидеть, что его протест вызывали не азиатские ценности, а их тенденциозное противопоставление ценностям общечеловеческим. Более того, с его точки зрения, все те черты, которые приписываются конфуцианству (склонность почитать правителей и презирать простой народ, стремление к жесткой иерархичности и т. п), на самом деле ему не свойственны[15].
В конце ХХ в. место конфуцианства и его соотношение с корейским национальным характером стали темой широких дискуссий. Где-то критике подвергалось не конфуцианство как таковое, где-то некие морально устаревшие элементы общества, тормозящие его развитие по пути демократии и глобализации.
С точки зрения профессора политологии университета Ханъян Ян Гына, набор ценностей, характерный для конфуцианской культуры, был самым большим препятствием на пути развития по этому пути: именно неприязнь конфуцианского менталитета к «деланию денег» и его невнимание к военным делам помешали Китаю, в отличие от Японии, развиться в сверхдержаву. Ян указывал, что, хотя государственная система РК сейчас построена на следовании европейской традиции, мысли и действия субъектов этой системы демонстрируют приверженность традиционной политической культуре, построенной на дискриминации, связанной с регионализмом, образованием и личными связями, которые сковывают движение общества вперед.
Несколько иное мнение о конфуцианских добродетелях, высказанное известным адвокатом и журналистом Чун Сон Чхолем, заключалось в том, что эта система ценностей традиционно ставит верность системе выше рациональности, а интересы группы выше интересов отдельной личности. Помощь человека человеку в рамках системы воспринимается как естественный долг, даже если это выглядит (или является) нелегальным актом или проявлением коррупции. Новая эра ставит на первое место индивидуализм и независимость личности от системы, абстрактные интересы страны оказываются выше, чем интересы узкого круга (семьи), и новое понятие честности отличается от традиционного понятия искренности. Умение находить нестандартные решения и творческое мышление важнее, чем общий высокий уровень знаний. Поэтому дело не столько в том, что отжили старые ценности, сколько в появлении новых. И главное – суметь творчески воспринять их, не потеряв свою национальную культурную идентичность.
Особенно много шуму наделал вышедший в 1999 г. бестселлер профессора университета Санмён Ким Гён Иля «Конфуций должен умереть, чтобы страна жила», где автор утверждает, что благодаря конфуцианству «мы… превратились в затоптанных „корейцев-конфуцианцев“ с промытыми мозгами, мы отстали от мира на 100 лет…» Однако, как отмечает Татьяна Габрусенко, идеи Кима «фактически повторяли все претензии к этой стране приезжих преподавателей английского, сердитых на Корею за то, что она – не 51-й американский штат»: роль конфуцианской традиции в экономическом чуде РК он игнорирует.
В рамках этой же дискуссии поднимался и вопрос о том, насколько действительно конфуцианство проникло в корейский национальный характер. Дескать, конфуцианская надстройка над природными особенностями корейской ментальности искусственно подавляла именно те черты, которые способствуют повышенному восприятию западных ценностей, и что, когда конфуцианские оковы окончательно падут, новое поколение корейцев взрастет на той самой протестантской этике, которая в свое время привела Европу к прогрессу.
По свидетельству ряда молодых ученых или публицистов РК (Ли Вон Бока и др.), в корейском национальном характере достаточно много черт, сочетающихся с западной моделью ценностей: корейцы более эмоциональны, более прагматичны, в значительной мере придерживаются горизонтального мышления, близкого к западному пониманию эгалитаризма («если это есть у него, это должно быть и у меня»), отличаются высоким мотивом достижения и, если отбросить конфуцианское напластование, определенной долей индивидуализма. Возможно, считают они, еще и поэтому Корея оказалась наиболее европеизированной страной на Дальнем Востоке.
Однако ряд других моих собеседников, признавая наличие у корейцев этих качеств, придерживался более скептической точки зрения. Так, политолог Ом Гу Хо, оценивая корейцев как нацию эгоистов, не видит в этом эгоизме фундамента для перестройки общества. В отличие от Японии, где действительно развит коллективизм, кореец помогает другим, только если уверен, что потом помогут ему. А такой подход не может обеспечить сплочение сил многих людей, необходимое для рывка. Кроме того, по мнению Ома, если прорыв в западной культуре был связан с сочетанием в ней эгоизма с рационализмом, в Корее эгоизм накладывается на иррациональность традиционного сознания, а также – на отсутствие такого важного элемента, как гуманизм.
И хотя в начале нулевых «три принципа и пять отношений» проходили в школе, конфуцианцами школьники и студенты себя не считали, и Габрусенко указывала, что в устах корейского студента того времени «слово „конфуцианский“ звучит часто как „домостроевский“, „кондовый“ („профессор у нас очень конфуцианский“, „он к женщинам относится по-конфуциански“)». При этом конформизм сохранялся, и студенты, критикующие такого профессора перед иностранцами, в общении с ним соблюдали весь приличествующий пиетет.
Важным элементом «деконфуцианизации РК» были реформы Но Му Хёна в сфере образования, когда, во-первых, 21 января 2003 г. был отменен предмет «начальная военная подготовка» и сокращено количество часов на «этику», а во-вторых, реформировал преподавание китайских иероглифов. Вообще, количество иероглифических знаков, обязательных к изучению в школе, было значительно сокращено, а там, где можно использовать хангыль, стараются писать на хангыле. Последнее автор считает очень важным шагом в стремлении властей разорвать связь с традицией: уход от иероглифов и форсирование интереса к английскому языку вплоть до насыщения корейского языка англицизмами – один из способов пропаганды новой политической культуры через подмену понятийного аппарата.
С этого времени начало сокращаться и число иероглифов в тексте[16], и меняться транскрипция. Так, если ранее китайские имена и географические названия (для примера – «Си Цзиньпин» и «Шанхай») на корейском записывались в соответствии с корейским произношением соответствующих иероглифов («Со Гымпхён» и «Санъхэ») к нынешнему времени преобладает запись «как слышится» («Сси Ччинпхин» и «Ссянхаи»).
Дискуссии о том, как сохранить конфуцианство, активно велись и 2020-е гг., причем такие участники обсуждения, как почетный профессор корейского, азиатского и ближневосточного языков в университете Бригама Янга в Юте Марк Питерсон, пытаются привязать его к современной «повестке». По мнению автора, «до определенного момента в конце XVII века корейское конфуцианство не было частью общества, в котором доминировали мужчины», но затем включило в себя «принципы патрилинейности и мужского доминирования». Если конфуцианство из религии снова превратится в идеологию, в центре которой снова окажутся верность, уважение к старшим и культ образования, у него есть шанс найти признание в обществе нового века.
Что-то меняется и на уровне нормативных актов. 27 июля 2024 г. Конституционный суд отменил статью уголовного кодекса, которая во имя укрепления семейных традиций автоматически прощала имущественные преступления, совершенные против ближайших членов семьи.
В современных материалах, попадающихся автору, о конфуцианской культуре говорят в основном в негативном ключе. Включая заявления о том, что «конфуцианство привело к падению нашей страны», «традиционное общество подавляло деятельность женщин из-за конфуцианства» или «конфуцианская иерархия антидемократична и контрпродуктивна». Даже после попытки Юн Сок Ёля ввести военное положение публицисты задавались вопросом, «может ли это быть связано с конфуцианской иерархической культурой, которая, по-видимому, все еще доминирует в сознании корейцев, с чрезмерно конкурентной атмосферой в южнокорейском обществе, разочарованиями, вызванными экономическим неравенством, и отсутствием уважения к закону»?
Приглашение к дискуссии: является ли современная Республика Корея «конфуцианской страной»?Ответ на вопрос в конце предыдущего раздела на самом деле заставляет задуматься. С одной стороны, о конфуцианском наследии продолжают говорить, а конфуцианский университет Сонгюнгван продолжает активно функционировать. С другой, по ощущениям автора, реальное конфуцианское наследие во многом выветрилось, и штамп «Южная Корея – общество, построенное на конфуцианских ценностях», к 2025 г. устарел и не объясняет нынешнего положения вещей.
Конечно, количество людей, которые «придерживаются конфуцианского мировоззрения в современной РК», сложно посчитать, особенно с учетом синкретизма. Однако по данным опросов 2018–24 гг., протестанты составляют 20 % населения, католики 11 %, буддисты 17 %, неверующие 51 %. Это уже говорит о доминировании условно христианской морали или светской этики.
По мнению автора, после 2003 г., когда отменили иероглифику и изменили содержание курса этики в школе, механизм воспроизводства традиционных/конфуцианских ценностей дал сбой, и от них остается только внешняя форма[17]. В современной жизни мы, таким образом, имеем дело с поколением 30–40-летних людей, которые учились по иным лекалам и воспитаны в иной этической системе.
Апеллирование к конфуцианским ценностям в этой среде имеет чисто шаблонный или рутинный характер, ритуалы исполняются по привычке и без понимания, а паттерны отношений наполняются новым содержанием, и вместо прежней модели, которая накладывала моральную ответственность на обе стороны, происходит следующее.
– В отношениях начальника и подчиненного появляется то, что в РК называют «капчжиль», который автор условно называет «административным садизмом» (синдром вахтера – лишь одно из проявлений, речь о получении удовольствия от унижения подчиненных).
– В отношениях мужа и жены все больше встречается домашнее насилие, которое становится системной проблемой.
– Отношения сонбэ – хубэ скорее стали аналогом армейской дедовщины, при которой сначала гоняют тебя, а потом гоняешь ты, отчего буллинг в школе и университете тоже стал рассматриваться как проблема национального уровня.
Более подробно об этих проблемах мы будем говорить во втором томе, но уже сейчас надо отметить, что каждая из этих проблем воспринимается в обществе как весьма серьезная.
Глава 3
Эволюция государственного строя Севера и Юга
Разделение страны и «синдром огненного кольца» в значительной степени помогли укреплению авторитарных тенденций по обе стороны 38-й параллели, ибо постоянная близость врага, необходимость действовать военными методами и приносить в жертву личное благосостояние во имя процветания страны требовали структур управления, естественно предполагающих ограничение свободы.
Государственный строй РК до Шестой республикиДо начала демократических преобразований взаимоотношения власти и закона в Южной Корее имели следующие особенности. Закон находился в подчиненном положении, и меняющаяся власть каждый раз подстраивала его под себя, легитимизируя свои инновации. Иными словами, не президент руководил страной согласно существующей конституции, а конституция переделывалась под президента. Большинство изменений касалось в основном формы правления, системы выборов президента, меры его власти и сроков его полномочий. За время существования Республики Корея было принято шесть небольших по объему конституций, по числу которых и ведется счет республикам (при том, что на правление Пак Чон Хи приходилось две конституции[18]).
Согласно конституции Первой республики президент и Национальное собрание были наделены равными полномочиями, но затем различные поправки усилили власть президента. Первые из них были приняты в 1952 г. (введение прямых выборов, освобождение президента от прямой ответственности перед парламентом), а затем – в 1954 г. (отмена ограничений на число президентских сроков и право президента лично контролировать деятельность всех министров и государственных учреждений).
Редакция конституции 1960 г. создала основу для Второй республики, которая установила парламентское правление по типу Великобритании или Западной Германии, снова сведя роль президента к церемониальной. Он считался главой государства, но исполнительной властью не обладал.
Согласно конституции Третьей республики президент наделялся самыми широкими полномочиями и избирался прямым голосованием сроком на четыре года, но не более чем на два срока подряд. Однако, отбыв два срока, Пак Чон Хи сначала стал добиваться права на третий, а после победы на выборах 1971 г. совершил конституционный переворот Юсин. На его фоне в конституцию были внесены поправки, которые предусматривали увеличение срока президентства до шести лет, косвенную систему его избрания при помощи выборщиков, неограниченное количество переизбраний, наделение главы государства правом распускать парламент, назначать кандидатов в Национальное собрание через так называемое «собрание выборщиков». Таким образом, конституцию Четвертой республики 1972 г. можно считать «суперпрезидентской».
Конституция Пятой республики 1980 г. создавалась для того, чтобы не допустить прихода к власти второго Пак Чон Хи (впервые президент избирался всего на один срок, хотя этот срок составил семь лет и избирала его коллегия выборщиков). Тем не менее, несмотря на демократические формулировки и заявленные права и свободы, власть президента была существенно усилена. В случае, если в конституцию все-таки нужно было внести изменения, касающиеся продления срока полномочий президента, они не могли применяться по отношению к действующему президенту, а только к последующим. Президент мог распустить парламент, но парламент мог отправить в отставку Кабинет министров. Однако, пока парламент не приступил к выполнению своих обязанностей, законы принимал специальный Совет по национальной безопасности, возглавляемый президентом. В результате президент имел возможность менять политическое положение в стране в любую выгодную ему сторону.
Система власти в РК на данный моментДаже согласно относительно либеральной по сравнению с предшествующими конституции 1987 г. президент – символ и представитель нации, глава администрации и руководитель Государственного совета, главнокомандующий вооруженными силами страны (хотя решение об объявлении войны или отправке войск проводится через парламент), непосредственно отвечает за внешнюю и внутреннюю политику, но избирается прямым голосованием на один пятилетний срок без права переизбрания, что делает невозможными попытки удержаться у власти.
Президент может неограниченное число раз накладывать вето на законы, которые проводит парламент, может назначать министров (но не премьера) без одобрения парламента и наделен правом назначать трех из девяти членов Конституционного суда (остальных назначают председатель Верховного суда и парламент).
С другой стороны, согласно ст. 61 Основного Закона за нарушение конституции и законов при исполнении служебных обязанностей президент может подвергнуться импичменту. При этом парламент может объявлять его не только президенту двумя третями голосов парламента, но и премьер-министру, членам Государственного совета, министрам, судьям и другим должностным лицам, для чего требуется простое большинство голосов.
Президент не может создать новый или ликвидировать существующий правительственный орган, даже во внешней политике его действия ограничены. В соответствии со ст. 60 и 61 конституции парламент должен утвердить не только военное положение, объявление войны или направление вооруженных сил РК за границу, но и иные законы, влияющие на суверенитет страны или налагающие на нее существенные обязательства.
Парламент (Национальное собрание) на данный момент включает в себя 300 депутатов (число зависит от населения страны), большинство которых – депутаты-одномандатники, но 46 идут по партийным спискам.
Решения преимущественно принимаются простым большинством в минимум 50 % + 1 голос. Две трети депутатов требуются для импичмента, поправок в конституцию или преодоления президентского вето при попытке повторно провести отведенный им закон.
Парламент может принимать решения по кадровым вопросам, однако де-юре они носят только рекомендательный характер и формально президент не обязан к ним прислушиваться. Обязательного одобрения требует только кандидатура премьер-министра. Иное дело, что действия наперекор парламенту могут быть восприняты как противодействие воле народа и его избранников.
Спикер Национального собрания избирается на два года, и на это время его членство в политической партии приостанавливается. Он не может руководить ею, даже если делал это ранее.
Депутатам запрещается занимать посты в государственных учреждениях. Они обладают неприкосновенностью, но иммунитет распространяется на них лишь во время парламентских слушаний и то за исключением особо тяжких преступлений. Арестовать депутата во время сессии можно только с одобрения парламента, причем на сессии должно присутствовать больше половины членов Национального собрания. Для этого министр юстиции должен получить разрешение от президента и премьер-министра и направить в Национальное собрание специальное письмо, и в случае, если после обсуждения этого письма Собрание даст «добро» на арест своего члена, ведущий его дело судья должен вызвать депутата к себе и окончательно убедиться в необходимости заключения его под стражу.
Ни у президента, ни у Конституционного суда нет конституционных возможностей распустить парламент или досрочно прекратить его полномочия. Профессор политологии Сеульского национального университета Кан Вон Тхэк в связи с этим указывает, что «когда между президентом и Национальным собранием возникает конфликт, президентской системе не хватает институциональных механизмов для разрешения таких споров. Когда эти конфликты обостряются, законодательный орган может добиваться импичмента президента, в то время как президент может рассмотреть возможность использования военной силы…».
Добавим к этому, что если президент избирается на пять лет, то парламент на четыре, отчего президенту зачастую приходится иметь дело с парламентом, расклад сил которого отражает ситуацию прошлых лет.
Главным исполнительным органом страны является Госсовет. В него входят президент (его председатель), премьер-министр (вице-председатель) и руководители других общенациональных министерств и ведомств. Премьер назначается президентом с одобрения Национального собрания, а члены Госсовета – президентом по рекомендации премьера. Функции премьер-министра, таким образом, сводятся к организации общего планирования и координации действий членов Госсовета.