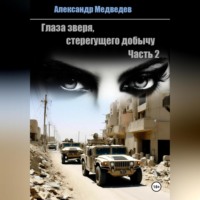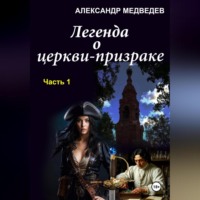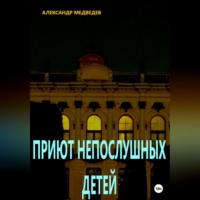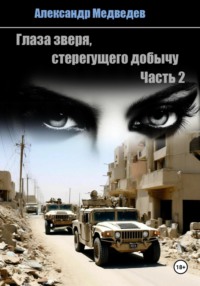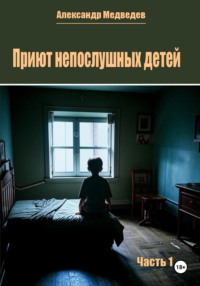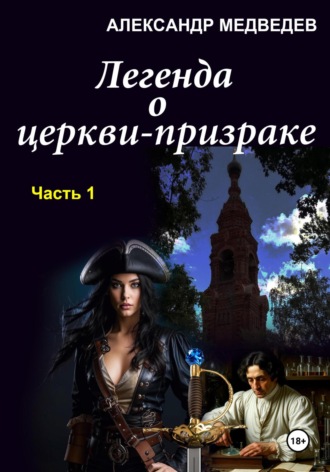
Полная версия
Легенда о церкви-призраке
– Саш, а зачем тебе этот тоннель? – спросил он, пристально глядя мне в глаза.
– Хочу написать научную работу по истории этого монастыря. Хочу сам посмотреть на тоннель. Может там найдутся какие артефакты, интересно увидеть старинную кладку и как вообще построен тоннель! – невозмутимым тоном ответил я. Я уже заранее был готов к такому вопросу.
– Кандидатская? – в его глазах промелькнул огонёк восхищения и заинтересованности.
«Нет, про диссертацию соглашаться нельзя! – отметил я про себя. – Сейчас живо спросит из какого я института! Такого не проведёшь! Он все исторические институты знает!»
Я улыбнулся и всё так же невозмутимо ответил:
– Не, это уже позади! Хочу написать научную статью в журнал!
Андрей помедлил с ответом. Видно было, что он не очень доверяет моим словам. Я заметил, как он колебается, как внутри него происходит какая-то борьба.
– Знаешь, Саш, боюсь я здесь не смогу тебе помочь! – смущённо ответил он. – Я не хожу в этот тоннель и не знаю, как в него попасть! Все входу туда замурованы!
– Да брось, Андрей! Да ты и не знаешь, как туда попасть? Ты исследовал все подземелья Москвы! Ты был там, куда ни одна спецслужба не может проникнуть! И вдруг не знаешь, как залезть в старый тоннель?
Андрей нервно закрутил головой.
– Эх, Саш, брось эти глупости про статью! Ты хоть знаешь, что находится в этом тоннеле?
– Вот и хочу посмотреть!
Он закрыл глаза, откинулся на спинку кресла, усмехнулся:
– А… Ну да, конечно, знаешь! Мне это следовало сразу понять! Ладно… Есть один человек, который может показать тебе тоннель. Отец Алексей, пресвитер в храме Аксиньино. Я ему твой телефон дам. Если захочет показать, сам позвонит! Об оплате договоришься с ним лично! А мой тебе совет… лучше тебе не видеть, что спрятано в том подземелье!
Меня не испугали его слова. Я встал и горячо пожал ему руку. А кофе у него действительно оказался чертовски вкусным!
… От размышлений меня оторвал голос отца Алексея:
– Осторожней, лестница заканчивается!
Ну вот, наконец-то, я чувствую твёрдую землю под ногами. Несомненно, мы спустились в подклет. Внезапно вспыхнул яркий свет. Это отец Алексей включил электрическое освещение. Я огляделся вокруг. Ничего себе! Высота сводчатого потолка метров пять! Со всех сторон вижу стены из красного кирпича. Кладка старая, ещё начала двадцатого века, но в ней чувствуется какая-то несокрушимая сила и крепость. Она как скала, как монолит. Теперь я понимаю, почему эта колокольня так и осталась стоять – её просто не смогли снести! Ни одной современной машине не справиться с такой задачей!
Помещение почти пустое, если не считать сложенных в углу ящиков непонятно с чем. На одном из них горкой лежат старые лампадки. А прямо напротив лестницы, по которой мы спустились, огромная полукруглая арка, загороженная резными воротами. Отец Алексей вновь достал связку ключей и принялся отпирать ворота.
Глава 2. Страсти по биноклю
Москва. 1982 год.
Идея с биноклем была не просто фантастической, а по истине безумной. Бинокль, тем более «хороший», стоил в магазине баснословных денег. Рядом с нашим домом находился магазин «Культтовары» и теперь я чуть ли не каждый день наведывался в отдел оптики полюбоваться на свою несбыточную мечту. Более всех меня привлекал ярко-синий туристический бинокль с восьмикратным увеличением. Большой, солидный, сверкающий лаком, с золочёной каймой вокруг линз. Вот это вещь! Хоть бы прикоснуться к такому чуду! Но я даже боялся заикнуться продавцу вытащить его из-за стекла прилавка и дать мне в руки. Стоил бинокль семнадцать рублей шестьдесят копеек. Сумма просто космическая. О таком подарке я не имел права даже мечтать, не то, что просить его купить. Рядом с ним лежал ещё один, совсем маленький театральный бинокль за семь пятьдесят. Эх, я и на такой согласен! Правда, и за семь рублей бинокль мне тоже никто не купит.
Помню, как в магазине игрушек я иногда задерживался около прилавка, рассматривая какую-нибудь мелочь, копеек за пятьдесят или за рубль. Простенькие машинки, солдатики, сборные модельки, карандаши… Стоило только намекнуть, что мне понравилась какая-то безделушка, как бабушка немедленно брала меня за руку и быстрым шагом уводила как можно дальше от злополучного прилавка, а то, чего доброго, вздумаю ещё что-нибудь просить.
– И так игрушек полным-полно! Зачем тебе эта машина? —всегда говорила она, убыстряя шаг. – У тебя уже есть! В эти и то не играешь! Денег и так нет! На хлеб не хватит! Голодом насидимся!
Бабушка не на секунду не сомневалась, что голод обязательно вернётся, даже если и не будет никакой войны, и всем нам придётся «идти по миру» и просить милостыню. Вот тогда от этих пятидесяти копеек и будет зависеть – жить нам или помирать с голоду.
Просить купить бинокль у деда ещё не реальнее. Дед был скуп до невозможности. Постоянно всё копил, прятал, никому ничего не давал. А если что-то и давал, то обязательно с возвратом. За каждую копейку устраивал невообразимые скандалы. Питаться – только отдельно! Если прохудится кастрюля, то купить новую у него даже и в мыслях не было. Нужно запаять старую. Паять лудильным оловом – дорого! Дед паял обычным паяльным оловом. Его даже не смущало, что паяльное олово вовсе не олово, а вредный сплав сурьмы и свинца. Главное – дёшево! Паяльник у деда был дореволюционный. Естественно, от сети он уже не работал, и дед грел его на газовой плите. Новый паяльник стоил рубль девяносто! Можно застрелиться!.. А потом деда не стало. Наступили мрачные перестроечные времена с чудовищной инфляцией. И на все деньги, что дед накопил, купили ему гроб. Хотели ещё пару туфель, но на них средств уже не хватило…
У матери просить бинокль язык не поворачивается. Она одна вкалывает за троих. А с зарплатой инженера радиотехнического института особенно не разгуляешься.
И я разработал секретный план, как накопить денег на бинокль. Я начал собирать олимпийские рубли. Бабушке нередко давили сдачу в магазине такими рублями. Тратить их было жалко, уж слишком они красивые и необычные. И под предлогом, что я теперь буду собирать коллекцию, бабушка стала отдавать эти рубли мне.
Так прошёл год или два, и у меня скопилось семь рублей! И вот уже моё сердце начало радостно биться. Семь рублей как раз достаточная сумма для покупки маленького бинокля. Семнадцать рублей всё равно не накопить, так что пусть будет театральный! А тут и подошёл день моего рождения! Ради такого дня дед дал мне недостающие пятьдесят копеек, и мы отправились в «Культтовары» за биноклем!
Дед выбирал бинокль лично сам. Он заставил продавца вынести ему все экземпляры с прилавка и со склада магазина. На это у него ушло часа два. Продавец оказался на редкость терпеливым и выложил все бинокли, имеющиеся в наличии. Я уже начал всерьёз опасаться, что дед так и не выберет бинокль, психанёт и мы уйдём ни с чем. Но чудо всё-таки свершилось, и спустя два часа я наконец получил в свои руки вожделенный прибор! Моей радости не было предела. Теперь-то уж я смогу рассмотреть всё!
Бабушка, увидев мою покупку, вначале горестно сокрушалась, что я выбросил последние деньги на безделицу и теперь наверняка придётся «сидеть голодом», но потом смирилась и даже порадовалась такому приобретению.
Первым серьёзным испытанием для бинокля стал большой концерт в Доме культуры, куда я ходил учиться играть на аккордеоне. Такие выступления в клубе устраивались регулярно. К нам приезжали настоящие артисты из Москонцерта – певцы, музыканты, танцоры, фокусники. Вместе с ними выступали и свои ученики клуба. Выйти на одну сцену с именитыми артистами дозволялось только настоящим отличникам. Частенько мой учитель и меня выпихивал выступать.
Но сегодня мы с бабушкой пришли сюда исключительно в качестве зрителей. Зал огромный, как в хорошем кинотеатре. Все ряды заняты. Нам достались места где-то в самой середине зала, ближе к амфитеатру. Я сидел как на иголках, сгораемый от нетерпения испробовать бинокль. Наконец, свет погас, представление началось.
Концерт открыл квинтет балалаечников. Трое парней и две девушки лихо отжигали «Коробейников», «Утушку луговую» и что-то ещё из народного репертуара. Смотреть на них в бинокль не было особого интереса. Затем на сцену вышел какой-то очень серьёзный дяденька во фраке, заслуженный и народный артист всех республик Советского Союза, лауреат всех международных конкурсов во всех областях искусств и сыграл Турецкий марш на фортепиано. Зал аплодировал стоя!
Турецкий марш я «долбил» на аккордеоне уже года два. По ночам, во сне, ко мне являлся сам Вольфганг Амадей и бил линейкой по пальцам. Это невыносимо больше слушать!
В след за ним добрых полчаса выступал русский народный хор. Хор состоял из одних бабок, самой молодой из которых было лет семьдесят. Бабки пели старушечьими голосами что-то очень задорное. Слов было не разобрать, но я понял одно – песня про красно солнышко! При этом две исполнительницы остервенело трещали деревянными трещотками, собранными из бельевых прищепок, а третья карябала узорчатой ложкой по стиральной доске. Тут уж не до бинокля, тут хор и оркестр в одном флаконе!
Но вот, наконец, бабки убрались, несколько минут наслаждения тишиной, и на эстраду вышел следующий участник. Точнее, участница. У меня тотчас от волнения перехватило дыхание… Да это совсем молодая девушка, лет двадцати. Крепкая, спортивная. И она собралась исполнять настоящий экзотический восточный танец! А какой на ней потрясающий костюм! Ярко красная длинная юбка, одетая низко на бёдрах и блестящий нагрудник! На голове сверкающая диадема, с закрывающими пол-лица серебряными подвесками! Распущенные волосы! Вот это смелость! Суровые советские труженицы носили юбки только на уровне подмышек. Одеть юбку с низкой талией – да это верх бесстыдства, распущенности! Так носят юбки лишь похабные девки в капиталистической Америке! За такой стиль одежды в Советском Союзе вполне могли выпереть с работы! Юбка, вздёрнутая до шеи, превращала молодых девушек в старух, но на это всем было наплевать. Строгой доярке или ткачихе не до красоты! Превыше всего – надой на всю страну и звание передовика производства!
Я изо всех сил тянулся глазами к этой волшебной царевне. Проклятая слепота! Ничего не вижу! Да я ж совсем забыл! Вот он, звёздный час моего «телескопа» !..
Но едва бинокль показался в моих в руках, как со всех сторон на меня посыпались негодующие цыканья возмущённых зрителей:
– Мальчик, мальчик! Это что такое? Ну-ка, убери немедленно! Девушка раздетая, а он смотреть на неё собрался в бинокль! Как не стыдно! А ещё пионер!
Я ошеломлённо положил бинокль на колени…
После этого все переключились на бабушку.
– А ты что? Сидит, молчит! Привела сваво высерка, так следи за ним!
Я помню лицо моей бабушки, испуганное, виноватое. И я понял, что совершил что-то ужасное, низкое, порочащее великое звание пионера! Наверное, я встал в один ряд с теми самыми хулиганами, что подрисовывают всякие непристойности на скульптурах! Стыдоба-то какая!
Бабушка стала нервно дергать меня за рукав и горячо зашептала:
– Убери, убери скорей! Говорили тебе, не покупай «чертовню» всякую!
Только после того, как бинокль я запрятал глубоко под свитер, бдительные советские граждане успокоились. Свет зажегся и занавес опустился. Концерт окончен.
Все зрители встали со своих мест и начали понемногу пробираться к проходам. Встали и мы с бабушкой. Настроение у меня было отвратительное. Бинокль не испробовал и натворил что-то гадкое. Правда, в чём именно заключалась мерзость моего поступка, я никак не мог понять. Почему мне смотреть на старых бабок можно, а на красивую девчонку нельзя? Она же, собственно, для этого и пришла на сцену! Самое ужасное – я так и не сумел разглядеть её!
В фойе я опять увидел эту сказочную принцессу. Здесь, под яркими лампами, вблизи, она была ещё ослепительнее. Со всех сторон её облепила куча детей, самые ретивые даже обнимали танцовщицу за гибкий стан. Девушка сияла от радости, смеялась, что-то рассказывала столпившейся вокруг ребятне.
– Ну вон, твоя красавица! – отрешённо бросила моя бабушка. – Иди смотри на неё!
– Не хочу! Пойдём домой! – ответил я, направляясь к выходу.
– Да куда ты! Иди сюда! – запричитала бабушка. – Вон все дети около неё собрались!
Я отвернулся и побыстрей вышел из зала.
Кажется, в моей голове начал проясняться смысл моего проступка. Я покусился на то, что мне строжайше запрещено. Те, кто сейчас «повисли» на голой талии танцовщицы – это уже взрослые мальчики. Взрослые не по возрасту, взрослые ментально! Им можно! А мне, видно, всю жизнь придётся довольствоваться обществом стариков…
***
Ну вот на дворе и декабрь. Утро сегодня ясное, морозное. На улице тишина. Сегодня мы все вместе идём в парк Петра Алексеева. С биноклем! Наконец, я смогу разглядеть эту таинственную церковь во всех подробностях.
Мы пришли все втроём – я, бабушка и дед, на наш секретный смотровой пятачок на пляже. Не было такого случая, чтоб мы гуляли в парке и не завернули на заветное место посмотреть на возвышающийся на горизонте купол. Так что пятачок я уже мог найти в темноте на ощупь.
Я в нетерпении вытащил бинокль, приложил его к глазам…
Но увы, меня ждало разочарование. Слабое увеличение бинокля в два с половиной крата не позволило даже приблизительно рассмотреть загадочный купол в деталях. И старенькая церквушка так и осталась для меня недоступной на многие годы.
Через сорок лет я снова вернулся на это место. Только теперь в моих руках был 12-сильный морской бинокль с объективами высочайшего разрешения. И целью моей было не только увидеть купол вблизи, но и определить направление и во что бы то ни стало найти неизведанный храм.
За столько лет я уже забыл расположение пятачка. Пришлось долго бродить по пляжу. Не помогал даже мощный бинокль. Заветный купол я не мог увидеть ни с одного сантиметра пляжа. У меня начали закрадываться самые неприятные подозрения, что церковь застроили высотными домами так, что она уже и не видна, или того хуже – снесли. И как раз тут и случилось чудо – в просвете между двумя вновь возведёнными башнями промелькнул долгожданный остроконечный купол церквушки. Я прильнул к биноклю. Да-да, это она самая и есть, сомнений никаких. Как же далеко она находится! Даже такой сильный бинокль, и то с трудом позволял рассмотреть подробности. Что же я хотел от мизерного театрального бинокля? По крайней мере, сейчас можно увидеть, как под куполом расположена звонница с колоколами. А на самом куполе возвышается крест. Значит, церковь, действующая…
И опять тот же самый эффект, достаточно не то, что шагнуть, а просто сдвинуть голову на полметра вправо или влево, и церковь уже не видна. И соседние башни вовсе этому не причина. Но это уже не важно. Главное – я теперь знаю направление! Я сверил по навигатору путь движения. Если следовать всё время прямой линии, то вначале нужно полностью обойти пруд. За ним, судя по карте, какой-то заброшенный то ли сад, то ли парк. Его тоже необходимо пройти по прямой. А дальше… Дальше будем смотреть по обстановке.
Не за долго до своего похода, я тщательно изучил местные карты, но ни на одной из них никакой церкви в этом районе обозначено не было. Странно, это в наше-то время, когда памятники старины возрождаются и охраняются государством, церковь не нанесли на карту? Тогда, что же я видел?
Спустя двадцать минут усиленной ходьбы я обогнул пруд. За ним бетонный забор, за забором заросшая территория с каким-то непонятным заведением. Вход закрыт. Сколько же в Москве таких безымянных организаций без определённого вида деятельности? Сотни! Все они проживают свой век без всякой цели, просто так занимают огромные территории, портят ландшафт своими грязными заборами, для устрашения ещё обнесёнными колючей проволокой, и только создают непомерные неудобства людям, перекрывая проходы в самых нужных местах. Я даже не буду включать навигатор, чтобы посмотреть, какая шарага притаилась за этим забором. Всё равно, даже если у неё есть название, оно мне ни о чём не скажет.
Скорее всего, церковь находится за этим самым заведением. Нужно обойти и его. Я сделал большой крюк вдоль всего периметра забора. На противоположной стороне закрытой организации оказались владения института гражданской авиации. Здесь хотя бы всё открыто, можно зайти. Институт строился давно, ещё в 1971 году. Территория огромная и с тех пор она так и не изменилась. Время здесь как будто замерло на семидесятых годах Советского Союза. Гипсовые стены с барельефами, посвящёнными достижениям в советском спорте, каменные стелы с лозунгами «Быстрее, выше, сильнее!», «К новым достижениям в труде и спорте!», футбольное поле, заржавевшие турники, и по всюду не тронутые полвека человеческой рукой лесные заросли.
Я обошёл эту территорию всю. Если верить моим расчётам, церковь должна была находиться где-то тут. Но здесь её нет. В конце зарослей проходит дорога, за ней Головинское кладбище. Я снова вернулся назад. Ещё и ещё раз шаг за шагом прочесал территорию института. Теперь я уже потерял направление. За кладбищем церковь находиться не может. Слева Головинские пруды. Справа я видел то ли завод, то ли ТЭЦ, обнесённый громадным забором. Там тоже церковь не может стоять. Тогда где же? Отсюда, кроме высоченных зарослей не видно ничего. Придётся, видимо, вернуться в исходную точку и снова выверять направление. Я спешно начал выискивать обратную дорогу, как вдруг заросли неожиданно расступились, и прямо в небесах я увидел знакомый купол, правда теперь он был уже значительно ближе. Я засуетился, хотел вытащить из сумки бинокль, но неосторожно сделал шаг в сторону и купол исчез. Да что же это такое? Вот он тот самый просвет в зарослях, но купола нет! Тут уже бессмысленно пытаться восстановить шаги. Мизерный пятачок размером с блюдце мне не найти. Церковь специально только на мгновение показалась мне, давая возможность восстановить потерянное направление, и снова исчезла. Ну что ж, я запомнил! И у меня опять есть путь! Я посмотрел на карту – путь ведёт точно вскользь мимо непонятного завода. Но там сплошные жилые дома. Странно… Идём туда…
И вот я вхожу в жилой квартал. Дома, подъезды, детские площадки, сквер, лавочки… Здесь совсем ничего не намекает на церковь. Да где же она? Я где-то нахожусь совсем рядом с ней, но я не вижу её!
Впереди огромный длинный дом. Нужно его обойти. Дом настолько длинен, что только пройти его из одного конца в другой уходит минут десять. Но за ним тоже ничего нет. Там ещё один дом. Да сколько же их! Так можно бесконечно обходить дом за домом и будешь только кружиться на одном месте. Церковь где-то здесь. Я это чувствую!
Сейчас нужно вернуться назад и попробовать зайти в квартал с другой стороны. Там тоже длинный дом. Я обхожу и его… Что это? Я не верю своим глазам! Я вижу её! Она здесь, прямо передо мной! Огромная и величественная красавица, тонкой стрелой уходящая в небо! Это невероятно! Всё это время я находился в десяти или двадцати метрах, и не видел её! Я увидел её потому, что она сама разрешила мне увидеть себя! Теперь уже нет никаких сомнений. Заметить эту церковь не может кто попало, просто так, мимоходом. Она открывается только тем, кто стремится к ней, кто ищет её, кто верит ей…
Я уже вижу главный вход, над которым находится икона Божьей Матери, и открытую калитку…, и я захожу!
***
Отец Алексей с трудом открыл заржавевший замок на воротах. Створки отворились, издав протяжный тоскливый вой. Вот он, тот самый тоннель. Здесь его начало. Я поразился масштабу и качеству прокладки тоннеля. Высота не менее трёх метров. Стены и потолок вымощены красным кирпичом, пол выложен брусчаткой. Ширина тоннеля такая, что по нему запросто может проехать легковой автомобиль.
Батюшка вновь включил фонарь, луч света прорезался сквозь темноту каменного коридора и пропал где-то далеко-далеко вне пределов видимости.
– Пойдёмте? – пригласительным тоном сказал отец Алексей и сам первый направился в тоннель.
Я тоже вытащил из-за пазухи свой фонарь, ещё раз оглядел сводчатый вход, а затем, не колебаясь, последовал за священником.
«Странно, почему он так уверенно ведёт меня? – промелькнуло у меня в голове. – Не задаёт никаких вопросов, ничего не рассказывает. Точно знает, что пришёл я сюда не на обычную экскурсию.»
Мы прошли метров сто. Судя по тому, как легко было идти, я понял, что тоннель идёт под уклон и мы спускаемся всё ниже и ниже. Электрическое освещение в тоннеле проложено не было, так что здесь приходилось рассчитывать только на надёжность наших фонарей. С левой стороны я увидел боковое ответвление. Такая же полукруглая арка с деревянной дверью. А чуть поодаль ещё одна арка, в два раза больше, но она вся завалена камнями. Наверное, там раньше были ворота. Здесь отец Алексей остановился, открыл дверь, и мы вошли в следующее помещение. Я остановился в изумлении. Огромный зал, по которому в два ряда стоят огромные каменные ящики. Я не сразу понял, что это такое. И только когда на самом ближайшем я увидел выбитое имя человека, я понял… Это же саркофаги! Я непонимающе оглянулся на отца Алексея. Тот, увидев мою тревогу, смутился и без лишних вопросов начал объяснять:
– Простите, что сразу не предупредил вас! Это усыпальница. Здесь покоятся останки монахов. В начале семидесятых, когда начали сносить монастырь, разорили и монастырское кладбище. Гробы вместе с останками выкапывали экскаваторами, потом свозили в крематорий. Но были и люди, которые не могли спокойно смотреть на такое надругательство. Несколько священников из храма в Аксиньино, братья-монахи из московских монастырей, да просто верующие люди сохранили немногие уцелевшие останки и спрятали их здесь, под землёй, вот в этой усыпальнице. А раньше здесь было помещение для экипажей. На них ездили по этому тоннелю.
Теперь мне стало ясно, зачем такая ширина тоннеля и каменный пол. Чтоб могла проехать карета с лошадьми.
Я посветил фонарём вглубь усыпальницы. Самый последний саркофаг был открыт. Каменная крышка валялась тут же рядом.
– Отец Алексей, а почему та гробница открыта? – спросил я.
Батюшка и я подошли поближе, заглянули внутрь. Саркофаг был пуст.
– Вы знаете, Александр, я сразу понял, зачем вы пришли! – тихо произнёс отец Алексей. – Вы ведь хотите увидеть Её?
По моему лицу прошёлся жар, и я промолчал в ответ.
– Она лежала здесь! – продолжил священник. – А потом… Она ожила и ушла! Прошло уже сорок лет. Никто не знает где она. Помимо главного тоннеля здесь есть ещё два. Один ведёт в храм Аксиньино, а второй в Ховрино. Это самый дальний и неизведанный тоннель. Туда люди не ходили уже полвека. Главный тоннель и Аксиньинский замурованы, чтоб никто не мог не войти, не выйти из них. Но что происходит в Ховринском тоннеле и есть ли из него выход не знает никто. Я уверяю вас, что даже если вы туда проникните, то Её вы там не найдёте всё равно!
Глава 3. Великий алхимик
1732 год. Глинки. Московская губерния.
Село Глинково, что располагалось в тридцати семи вёрстах от к северо-востоку от Москвы, было одним из тех самых необыкновенных мест, в которых сочетается непередаваемая красота русской природы, тишина девственных лесов, пьянящий запах луговой ромашки и далеко-далеко разлившейся по всему небосклону песни жаворонка.
Двадцатого июня одна тысяча семьсот тридцать второго года солнце взошло аккурат без четверти четыре утра. Ещё не успевшие отойти от ночного сна бескрайние поля, непроходимый лес со стороны Богословского храма и две спокойные, как зеркало, реки Клязьма и Воря внезапно ожили и озарились тысячами ярких цветов. В знак подтверждения наступившему утру прокричали петухи. Затем несмело попробовали свои силы синицы и мало-помалу начали подавать голос стрижи.
Солнце ещё немного поднялось над горизонтом, и вот уже стала видна ухоженная усадьба с прудами, аллеями, парадным домом и флигелями. Принадлежало данное имение отставному генерал-фельдмаршалу Якову Вилимовичу Брюсу. В этой усадьбе он жил уже пятый год после того, как выкупил её у князя Долгорукого. Его супруга, Марфа Андреевна, скоропостижно скончалась почти сразу же, как они переехали в новое поместье. И теперь Яков Вилимович, которому на тот момент исполнилось пятьдесят восемь лет, сосредоточил все свое усердие и все жизненные интересы на научных исследованиях. Он мог сутками не вылезать из своей лаборатории, что находилась в одном из флигелей усадьбы. И даже тогда, когда в свободное от опытов время пребывал у себя дома, всё равно занимался чертежами и расчётами.
Утро было почти уже в самом разгаре, солнечные лучи сквозь раскрытое окно осветили просторный кабинет, заставленный неимоверным количеством мудрёных приборов, предназначенных для экспериментов с электромагнетизмом, стеклянных колб, соединённых каучуковыми трубками, и ещё много чего такого, что непосвящённый человек вряд ли разобрался бы в этом даже лет за двести. С правой стороны от окна стояла большая, в человеческий рост, кукла. Кукла выглядела настолько естественно, что издалека её вполне можно было принять за живую женщину. На неё было одето платье служанки с кружевным белым передничком, лакированные чёрные туфли, рыжие волосы из убраны под золочёный кокошник. И только подойдя вплотную, можно было заметить, что лицо куклы безупречно вырезано из дерева и покрыто матовой мастикой, а волосы сделаны из тончайших шёлковых нитей.