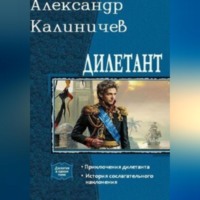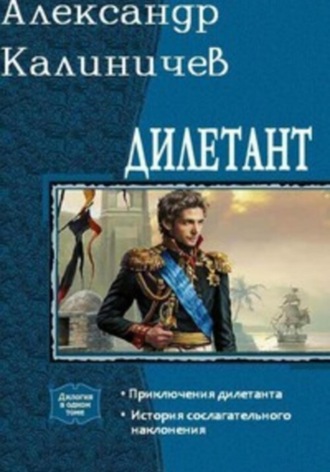
Полная версия
Дилетант. Приключения дилетанта
– Николай … э – э – э, прошу прощения, Как Вас по батюшке?
Штиглиц на мгновение замялся (или запнулся, или задумался).
– Моего отца зовут Лазарь.
Н-да. … Вопрос о национальности сразу отпадает – никогда не слышал про немцев с именем Лазарь. Правда, и не припомню немцев Николаев.
– Стало быть, Вы – Николай Лазаревич, … несколько …, э – э – э …
– Согласен, громоздко для русского языка, поэтому, называйте мня просто по имени.
– Ну что ж, в таком случае и Вас тоже прошу меня называть по имени. Согласитесь, что доверительность в разговоре всегда способствует доверительности в отношениях.
Штиглиц молча согласился, просто и открыто улыбнувшись.
– Вы из германских земель? У Вас немецкий акцент.
– Да, из Арользена2, мой отец казначей князя Фридриха Карла Августа3.
Честно сказать, ни про Арользен (ладно хоть с Германией угадал), ни про князя Фридриха Карла Августа я никогда не слышал. Впрочем, Карлов, Фридрихов и Августов в человеческой истории было достаточно.
– Простите за любопытство, но что могло привлечь сына казначея целого княжества в российской провинции?
– Немецкая провинция тоже имеет свои прелести. – В голосе послышалась лёгкая ирония. – В нашей семье шестеро детей, я старший. Наше же, как Вы изволили сказать, целое княжество – клочок земли на западе тоже далеко не бесконечных германских земель. Здесь же, в России, другие масштабы и другие возможности. Мы с отцом посчитали, что здесь у вас есть больше шансов для меня реализовать свои знания и способности.
– Давно Вы в России?
– Три года. Я занимаюсь винными откупами в Херсонской губернии.
– Простите за любопытство ещё раз, но чем Вас заинтриговал господин Максимȯвич, что Вы решили навестить меня, проделав не малый путь в нашу глушь? Ни я, ни мои соседи, насколько я знаю, винокурением не занимаются.
Штиглиц, мне показалось, был несколько озадачен.
– А что Вы, Александр, знаете о винном откупе?
– Ну, …гм, да … оказывается ничего.
– Откуп, если строго трактовать этот термин, есть система сбора налогов, при которой государство за определённую плату передаёт право их сбора частным лицам, то есть откупщикам. Императрица Екатерина учредила в 765 году комиссию для рассмотрения винных и соляных сборов, высказавшуюся исключительно в пользу откупа. С 767 года откупы введены в империи повсеместно с отдачею их с торгов на 4 года. Вино мы частью получали от казны, частью можем иметь своё, но с 81 года по «уставу о вине» вино для нас заготавливает казенная палата с казенных заводов или сзаводовчастных людей, смотря по тому, что выгоднее. – Интересно, говорит он хоть и с акцентом, но предложения строит грамотно. Это он за три года так в русском языке поднаторел?! – Служба откупщиков признана государственной, поэтому мы называемся – «коронные поверенные служители». С учреждением казенных палат в 1775 году местное заведование питейным делом поручено нам. Это, что касаемо моей деятельности… А на Ваш вопрос … – Штиглиц немного задумался. – Я обратился к господину Максимȯвичу по поводу головных болей, которые меня одно время беспокоили. Надо признать, Нестор Максимович мне очень помог. Во время одного из визитов к нему я увидел странный прибор – стеклянную трубку с поршнем внутри и заканчивающуюся полой иглой, которым доктор вводил лекарства прямо под кожу больному. Нестор Максимович объяснил мне, что сей прибор, он называл его – инъектор, придумали Вы, причём, обратил внимание, что Вы не врач. Мне стало интересно, как человек, к медицине не имеющий отношения, сие мог придумать? А тут у меня появилась оказия – здесь недалеко – в двадцати пяти верстах, в Карачеве появилось у меня одно дело, вот я и попросил доктора рекомендовать меня Вам. Нестор Максимович, в свою очередь, ещё больше подогрел моё любопытство, когда сказал, что у Вас есть несколько прожектов, и Вы ищите пути их воплощения.
– Любопытно, значит, Максимȯвич сделал-таки шприц! А мне вот не написал.
– И что? Скорее всего, этот инъектор проходит, так сказать, испытания, и Нестор Максимович не совсем уверен в успехе. Уж в его порядочности грех сомневаться.
– Что ж, спасибо за визит. В нашей глуши любой гость – событие, а уж в моём положении так дар свыше. О моих прожектах поговорим чуть позже, с Вашего позволения, а сейчас не изволите ли отобедать? Нам накрыли стол в саду. Прошу не побрезговать.
Я встал и, опираясь на палку, сделал жест, приглашая Штиглица следовать за мной. Он с любопытством смотрел на мои передвижения, но ничего не говорил.
Я уже достаточно хорошо передвигаюсь на протезах. Не так хорошо, как хотелось бы, но всё-таки уже без костылей, хотя палкой для уверенности в ходьбе пользоваться приходиться.
Штиглиц прогостил у меня три дня.
В первый день мы с ним проговорили чуть ли не до петухов. Я изголодался по нормальному общению. После отъезда Максимȯвича мне не с кем было нормально поговорить. Мой управляющий рассказывал мне о проблемах имения, видах на урожай, Степан – о деревенских слухах. Всё это было интересно … для общего развития, но вводило меня в такую тоску, что я начал понимать Обломова. Мои разговоры с отцом Ануфрием не шли далее религиозных тем. Батюшка всё пытался направить меня, по его мнению, на путь истинный, я же, в свою очередь, старался выработать у него более критический взгляд и на религию, и на церковь.
Приезжал ко мне пару раз сосед мой и дальний родственник – шаблыкинский помещик Киреевский Василий Николаевич, муж, безусловно, достойный, но все его интересы тоже не выходят за рамки охоты (в которой я, кстати, ничего не смыслю) и сплетен о соседях, которых я тоже не знаю.
И вот, действительно интересный человек. К моим проектам по преобразованию имения он отнёсся внимательно, но без … азарта, что ли?… А вот идея об организации какого-нибудь технологичного производства его заинтересовала.
Вариантов было несколько.
– Ещё Леонардо да Винчи использовал в своих изобретениях опоры качения. Есть его рисунок устройства, состоящего из двух колец, внутреннего и внешнего, посреди которых размещены вращающиеся шарики. Это устройство он называл подшипник. Лет десять назад в Англии построили ветряк, в опоре которого установлено такое устройство – две чугунных дорожки качения, между которыми находится 40 чугунных шаров. Такие устройства, установленные в колёсах, блоках, везде, где что-то крутится, способны сделать настоящую техническую революцию и двинуть прогресс вперёд семимильными шагами.
Тирада по поводу технической революции и семимильных шагов прогресса была, может быть, чересчур – Штиглиц ведь не инженер, но он, мне кажется, проникся.
Что требуется для начала производства? Да пустяк – маленький чугунолитейный заводик, мастерские, мастера литейщики и деньги, деньги, деньги…
– Чем сейчас освещают помещения в тёмное время? У крестьян обычно используются светцы, в которых горят лучины. У горожан-ремесленников – железные подсвечники, в которые вставляются сальные свечи. У тех, кто побогаче – уже используются восковые свечи. Реже в быту применяются лампы-масленки. У бедных слоёв, кроме сальных свечей, издавна используются плошки и жировки, наполненные жиром, в которых плавает зажженный фитиль. В «Журналь де Саван», кажется за 1765 год, я читал про парижского аптекаря Квинке, который приспособил над светильней стеклянный цилиндр. Кроме того, в «Новых Ежемесячных сочинениях» за прошлый год, я прочитал «Известия о втором путешествии доктора и коллежского советника Лерха в Персию». Вот, что он пишет: – Я раскрыл заранее принесённую шпаргалку в виде потрёпанного журнала, который мне любезно прислал месяца два назад Нестор Максимович. – «Нефть не скоро начинает гореть, она тёмно-бурого цвета, и когда её перегоняют, то делается светло-жёлтою. Белая нефть несколько мутна, но по перегонке так светла делается, как спирт, и сия загорается весьма скоро и светит зело ярко.» Я попытался пофантазировать на эту тему и придумал вот такой светильник. – Я показал Штиглицу рисунок самой простой керосиновой лампы. – Светильник на основе сгорания керосина – так называют продукта перегонки нефти, то, что Лерх называет белой нефтью. Конструкция керосиновой лампы примерно та же, что и конструкция лампы масляной: в емкость заливается керосин, опускается фитиль, другой конец фитиля зажат поднимающим механизмом в горелке, сконструированной так, чтобы воздух подтекал снизу. Разве что горелка в керосиновой лампе находится выше резервуара с горючим, так как керосин легче масла и легко впитывается фитилем. Сверху горелки устанавливается ламповое стекло – для обеспечения тяги и для защиты пламени от ветра.
Вот керосиновая лампа заинтересовала Штиглица уже серьёзно. Он не инженер, но он делец. И как настоящий делец имеет чутьё на то, что может быть выгодным. И если выгода от подшипников ему неочевидна, то здесь, видимо, он почувствовал что-то, что может стать весьма прибыльным.
Для внедрения в жизнь сего хай-тека тоже нужно самую малость – нефтеперегонный заводик, стеклодувный заводик, мастера и деньги, деньги и опять деньги.
Деньги?
Гм, деньги. Оказывается, указом Её Императорского Величества от 17 ноября 1775 года во всех губернских городах учреждены Приказы общественного призрения, получившие право приема вкладов под проценты и выдачи краткосрочных ссуд под залог недвижимости.
Правда, ключевое слово здесь для меня – краткосрочных.
Есть ещё вариант. В 1786 году на базе Петербургского и Московского заемных банков для дворянства учреждён Государственный заемный банк для выдачи долгосрочных ссуд под залог определенных видов недвижимости дворянам и городам. Этот банк организован для содействия дворянскому землевладению, «дабы всякий хозяин», как сказано было в манифесте по поводу учреждения банка, «Был в состоянии удержать свои земли, улучшить их и основать навсегда непременный доход своему дому».
А вот рисунок пера Штиглиц рассматривал долго. Если подшипник и керосиновая лампа всё-таки, какая ни есть, но физика – теория трения качения, теория горения, то простое перо для письма понятно для любого, кто умеет писать.
Штиглиц уехал вчера. Через пару часов после его отъезда полил дождь. Хороший такой летний дождь с грозой. Захватил его, видимо, в дороге. Вряд ли он успел до Карачева доехать – двадцать пять вёрст, всё-таки. Наверное, в Вельяминово был в это время. … И льёт до сих пор.
– Утро уже не раннее, а в комнате пасмурно, как и на улице…
– На какой улице? Нет здесь никаких улиц.
– Вставать не хочется.
Я отдал Штиглицу рисунки пера, подшипника и керосиновой лампы. Хотел ещё и чертёж велосипеда, но передумал – он и так на меня смотрит как на какую-то диковинку, хотя я всё время старался подчеркнуть, что все эти прожекты не мои изобретения, а плоды когда-то где-то чего-то прочитанного. Только не помню где и когда.
И ещё очень старался следить за словами. Перлы типа «не парся», «забей», «твою танковую дивизию» были бы странны. Особенно про «танковую дивизию». Я тут, было дело, сорвался на уроке со своими пацанами и выдал про танковую дивизию, потом пришлось объяснять, что имел в виду «танькину дивизию» – ну присказка у меня такая. Теперь в деревне новое ругательство, сам слышал – мужик погоняет лошадёнку и орёт: «Но, пошла, твою танькину дивизию».
Сможет ли Штиглиц претворить мои прожекты в материальное воплощение? … Поживём – увидим. Особенных преференций я не жду. Этот хай-тек через пятьдесят-сто лет и так войдёт в обыденную жизнь, хотя сделать все эти вещи и сейчас не так сложно. Меня от оптимизма удерживает только то, что и картофель уже в мире известен, и в Россию уже давно завезён, а у меня в имении никто о нём не знает, даже Карл Иванович. Нда, каждому овощу – свой срок.
А вот насчёт долгосрочной ссуды надо подумать.
Проблема в том, что ехать надо в Петербург. Нет, можно и в Москву, но в Питере есть Дашкова, и на её протекцию можно надеяться. В Москве я просто мелкопоместный дворянин, а в Питере – я крестник директора академии…
– А ты не преувеличиваешь возможности Екатерины Романовны?
– Нет, не преувеличиваю – я их просто не знаю, но в любом случае, авторитет княгини выше, чем поручика, даже если это сам поручик Ржевский.
– Надо вставать. Дождь, вроде бы, кончается. По крайней мере, капли под окном стали реже стучать.
– Ладно, ещё минутку.
Вчера вечером, уже когда шёл дождь, опять занимался со своими пацанами. Три дня пребывания у меня Штиглица были для них выходными.
На каникулы я их не отпускал. Нет, я понимаю, что лето год кормит, что им в семьях помогать надо, тем более, что семьи их состоят в основном из бабок, в лучшем случае с дедами. Но два часа вечером погоды не сделают. Кроме того, я их кормлю. Весной, пока не начались работы, мы занимались до обеда два-три часа, пока я не уставал (или пока мне не надоедало), потом они у меня обедали – кухарка моя Матрёна (по-деревенски – Мотря) накрывала для них там же, где и занимались – в людской. Теперь, летом мы занимаемся под вечер, а потом они у меня, или вернее, у Мотри, ужинают (Мотря говорит – вечерят).
Учу я их без какой-либо системы, потому как сам никаких систем не знаю. Просто учу грамоте, счёту и всему на что есть у меня в этот момент настроение.
– Вот что я вам расскажу, соколики мои. Далеко, далеко на востоке есть такая страна – Китай. Очень древняя страна, её история насчитывает четыре тысячи лет. Так вот, жил в этой стране великий стратег Сунь Бинь4. Нечего смеяться, наши имена для них тоже смешно звучат. Этот Сунь Бинь придумал такую штуку – стратагему, по-нашему будет военная хитрость. Эта стратагема звучит так: «Если становится очевидно, что выбранный курс ведёт к поражению, следует отступить и перегруппироваться. Когда проигрываешь, остается только три варианта выбора: сдаться, добиться компромисса или сбежать. Первое – это полное поражение, второе – поражение наполовину, и только бегство поражением не является. До тех пор, пока ты не разбит, у тебя ещё остается шанс…». – По глазам вижу – ничего не понимают. – Пожалуй, я немного о нём расскажу. Сунь Бинь был советником одного военачальника, по-нашему скажем, воеводы. Этот воевода часто любил биться об заклад с …князем, чьи лошади лучше и регулярно проигрывал. Однажды за ним последовал Сунь Бинь. Он знал, что лошади его воеводы уступают лошадям князя. Но и лошади воеводы, и лошади князя делились на три категории: хорошие, средние и плохие. Когда вновь начались скачки с тремя последовательными заездами на трех лошадях различных разрядов, Сунь Бинь посоветовал воеводе, чтобы тот сначала выставил плохую лошадь против хорошей лошади князя, хорошую лошадь против средней княжеской лошади и, наконец, среднюю лошадь против плохой княжеской лошади. Воевода последовал этому совету и в результате один лишь раз потерпел поражение – его слабая лошадь проиграла хорошей княжеской; однако он два раза выиграл, поскольку хорошая лошадь победила среднюю княжескую, а его средняя лошадь пришла впереди плохой княжеской. Победив в двух заездах из трех, воевода выиграл в бегах и получил хороший куш.
– Хитрый дядька. – Вставил свой пятак Егор.
– И так, голуби мои, приступим к очередному этапу вашего обучения.
– Так мы голуби или соколики? – Это я просто проигнорировал.
– А учить я вас буду вот чему. Жизнь, она, в общем-то, штука простая, но бывает, загоняет в самые тёмные углы, где и жить-то невозможно, а просто надо выжить. И ситуации бывают такие, что только быстрые, причём очень быстрые и решительные действия могут спасти эту самую вашу жизнью. Поэтому мы начнём учиться…э-э-э… наносить ущерб противнику максимально быстро и максимально эффективно.
– Понятно, будем учиться драться.
– Я, когда-нибудь, Егор, выполню своё обещание и прикажу тебе всыпать на конюшне, что бы ты старших не перебивал.
– И Вам станет легче?
– Может быть. Но твоей заднице точно не будет хорошо.
Послышалось ехидное хихиканье.
– Всё, прекратили балаган. Нет, мы не драться будем учиться. Будем учиться убивать. Убивать врага. Я подчёркиваю, врага. Мир не совершенен. Люди для своих корыстных целей порой способны на самые мерзкие поступки. Поэтому я хочу вас научить действовать в ситуациях, когда вам или вашему окружению будет грозить смертельная опасность… … Человек, существо сложное. Бывает, его всего уже изрубили, а он всё равно жив остаётся. Как я, например. А бывает, один раз рукой ударили, и то не очень сильно, а человек богу душу отдал. Почему так? Дело в том, что в первом случае, как не рубили человека, а жизненно важные органы не задели. А во втором, как раз на оборот. Один, не сильный, но достаточно точный удар попал в нужную точку, и у вашего врага остановилось сердце. В силу своего возраста и статуса вы пока не можете иметь оружие. Под словом статус, я подразумеваю опять же ваш юный возраст и социальное положение. Вы не дворяне, и шпаги и пистолеты вы иметь не можете. Стало быть, что? … Стало быть, вы должны научиться убивать голыми руками.
– А зачем нам это на голубятне?
– Почему на голубятне?
– Ну, Вы же нас голубями называете, значит, живём мы на голубятне. А что нам тут с Вами может угрожать?
Ага, у Чапая все чапаевцы. Нет, это конечно хорошо, что они так в меня верят, но… может правда, сказать Степану, что бы он выпорол этого неформального лидера? Сколько разумное, вечное и доброе ни сей, а без прополки дурости ничего не взойдет.
– Здесь со мной вам ничего не угрожает, но со мной вы будете не всегда. Поэтому запомните первое правило самбо. – Молчат, не переспрашивают. – Кто понял, что я сказал? – Молчат – Самбо, это самооборона без оружия (Харлампиев, надеюсь, меня простит за плагиат). Так вот. Первое правило самбо – старайся не попадать в ситуации, когда тебе грозит смертельная опасность. Второе правило – если видишь, что тебе угрожает смертельная опасность, беги. Беги от неё. Это не трусость. Это мудрость. И третье правило – если не можешь убежать по какой-либо причине – бей первым и бей наверняка. А теперь записывайте…
На мой непросвещенный взгляд, если учить тому, что интересно ученикам, то для них учёба перестаёт быть нудной обязаловкой и становится чем-то вроде игры. А ещё, учу своих (вот, вот – уже своих) ребятишек комплексно. Вот они пишут под диктовку и как бы пишут диктант, хотя проверять их я уже не проверяю. И не потому, что пишут без ошибок. С ошибками пишут (разве, что Шураисключение – у девочки просто врождённая грамотность), сами же потом себя и проверят, когда урок учить будут. Учебников-то у нас нет, и мои школяры учат уроки по собственным конспектам.
– Болевые точки на теле человека. Темя. Запишите в скобках: часть поверхности головы, лежащая между лобной и затылочной областями. Темя является самым незащищенным участком в верхней части головы. Если нанести по нему сильный и резкий удар, то человек может умереть. Потрогайте, где у вас находится темя. – Все дисциплинированно начали чесать свои головы. – Пишем далее. Висок. Под виском проходит артерия мозговой мембраны. Что это такое, потом объясню. Удар в эту область может привести к сотрясению мозга, а это либо потеря сознания, либо смерть.
– А какой висок? Левый или правый?
– Любой. Записали? А теперь потрите свои виски. Дальше, что у нас идёт по логике?
– Глаза.
Н-да, по логике действительно глаза, а я сам хотел сказать нос.
– Правильно, глаза. Если ударить человека в область глаз, это не просто острая боль, жертва может совсем потерять зрение. А если ткнуть в глаз большим пальцем, то можно достать до самого мозга и нанести ему необратимые повреждения. Потёрли глаза. Следующая точка…
– Нос?
– Нос. Удар в нос – это сильная боль. Это может дезориентировать человека, вызвать кровотечение. Носовую кость очень легко сломать. Потрогали себя за нос. Именно за нос, а не за переносицу. Переносица тоже, кстати, болезненная точка. Она связана со зрительным нервом. Если «знаючи» ткнуть в эту точку пальцем, это может обернуться летальным исходом.
– Чем, чем?
– Смертью. Летальный исход, это когда душа улетела. Следующая точка находится чуть ниже места сочленения челюсти с ухом. Направленный туда боковой удар приводит к поражению шейного отдела позвоночника, и противник падает. Про позвоночник я вам рассказывал прошлый раз, когда объяснял строение человека. Нашли эту точку у себя на лице? Далее … э – э – э … Кадык. Пишите, пишите. Даже легкий удар в эту область способен привести к удушью или рвоте. Если ударить сильно, это может привести к потере сознания или смерти. Потрогали себя за кадык. Его ещё называют «адамово яблоко». По Библии Адам вкусил запретный райский плод, поперхнулся, и он застрял в горле. Кадык есть и у женщин, Шура, просто он менее заметен.
– Это все?
Ага, уже устали писать.
– Нет. Это только те, что находятся в верхней части тела. Об остальных завтра поговорим. А теперь, я хотел бы, что бы вы запомнили одну историю: «Один ученик спросил своего наставника: – Учитель, что бы ты сказал, если бы узнал о моем падении? – Вставай! – А на следующий раз? – Снова вставай! – И сколько это может продолжаться: все падать и подниматься? – Падай и поднимайся, покуда жив! Ведь те, кто упал и не поднялся, мертвы».
Что-то подобное я им уже рассказывал … Точно, рассказывал про осла в колодце… Да, ну и что? Я же их ещё воспитываю. Воспитываю, чтобы никогда не сдавались.
Всё, всё, встаю.
– Филимо-о-н! … Филимон, твою танькину дивизию!
– Да тута я, тута, Лександр Фёдрч.
– Помоги, дружок, протезы пристегнуть.
__________________________________________________________________
1Николай и Людвиг Штиглицы поселились в России в конце XVIII века. Николай Штиглиц, будучи херсонским купцом, имел контору в Одессе, занимался откупами. Людвиг Иванович Штиглиц (1777—1842), российский придворный банкир, «за оказанные правительству услуги и усердие к распространению торговли» был в 1826 г. возведен в баронское Российской империи достоинство.
2Бад-Арользен (до 1997 года Арользен[1], нем. Bad Arolsen) – город в Германии, в земле Гессен.
3Карл Август Фридрих Вальдек-Пирмонтский (нем. Karl August Friedrich zu Waldeck-Pyrmont; 24 сентября 1704 (1704-09-24), Ганау – 29 августа 1763, Арользен) – князь Вальдек-Пирмонтский и командующий голландской армии в ходе Войны за австрийское наследство, фельдмаршал (20 марта 1746).
4Сунь Бинь – видный китайский стратег и военный теоретик периода Сражающихся царств (403—221 годы до н. э.).
Глава 6 (1791 август)
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая.
А.С. Пушкин
– Интересно, когда Пушкин писал про свою кибитку удалую, у него колёса также скрипели?
– Пушкин писал про зимнюю кибитку – там ямщик в тулупе и красном кушаке, стало быть, там кибитка была на санях, и скрипел там только снег.
– Тогда надо было зимой ехать.
– Зимой холодно. День короткий.
– Нда, … день короткий, волки злые … едем, едем в Москву.
Когда встал вопрос о моей поездки в Питер, Степан, всегда спокойный, даже чуть флегматичный, обрадовался – он, оказывается столько со мной прежним наездился, а тут полгода на одном месте… Спросил только, как поедем – в долгую или на перекладных?
– А как батюшка ездил?
– Так по-разному – и так, и так.
– А как быстрее?
– Так известное дело, на перекладных-то скорее будет, дён за семь доедем.
– !!!!
– Но, в долгую дешевше.
Оказалось, что «в долгую», это на своих лошадях – скорость небольшая, лошадям отдыхать надобно, а «на перекладных» – это в Карачеве, где была первая ямская станция, надобно купить подорожную, и потом можно менять лошадей уже на каждой такой же станции. А без подорожной никак нельзя – на первой же городской заставе задержит караульный офицер.
Всё, всё, в Питер мы пока не поедем – Москва поближе, вот в неё родимую и отправимся. Там тоже, чай, отделение Заёмного банка. И поедем на своих.
– И вот еду, вернее, тащусь третий день по необъятным просторам моей Родины. Где же, блин, Онегин летел здесь в пыли на почтовых? Грязь непролазная. Несмотря на то, что лето относительно сухое, дорога через брянские и калужские леса идёт по заболоченным участкам, других просто нет – вот почему, наверное, Наполеон здесь на Москву и не пошёл, вернее, не пойдёт – да он просто до неё не дойдёт. … Эх, знал бы …
– И что, не поехал бы?
– Э-э-эх, много вещей в жизни приходиться делать помимо своей охоты.
Вот мы и едем. Мы – это, естественно, я, так же естественно, Степан и Филька, который Филимон. Н-да, едем … Как там будущий великий поэт скажет – «Теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют, на станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают».
А что это там впереди?