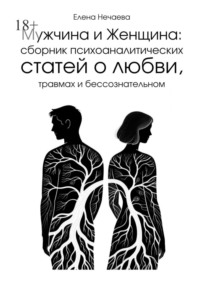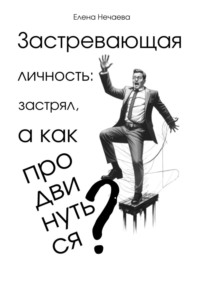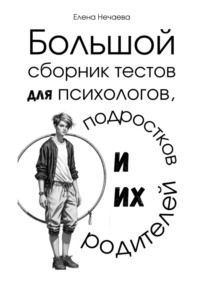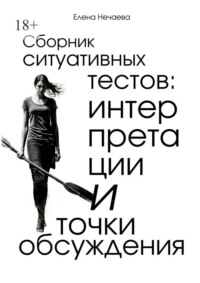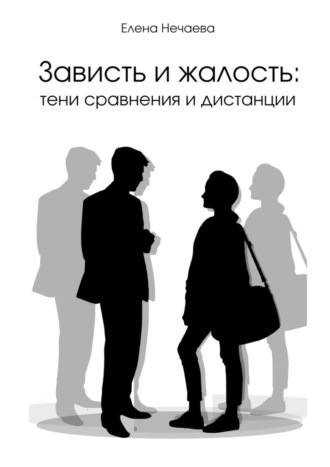
Полная версия
Зависть и жалость: тени сравнения и дистанции
В следующей главе мы поговорим о том, как зависть может не только ранить – она может разрушать. Как она превращается в проективную и нарциссическую зависть, и какие механизмы стоят за этими опасными формами.
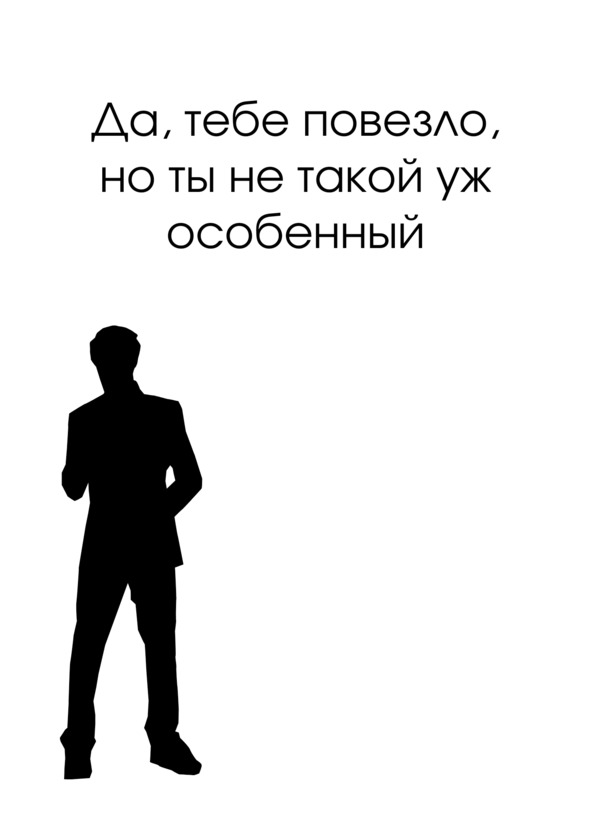
Проективная и нарциссическая зависть
Если зависть – это сигнал о внутреннем разрыве, то её наиболее острые формы – проективная и нарциссическая – указывают на глубокие трещины в структуре личности.
Эти виды зависти не ограничиваются простым желанием обладать тем, что принадлежит другому. Они содержат в себе элементы агрессии, отрицания, проекции и даже разрушительной потребности в уничтожении объекта желания.
В этих формах зависть перестаёт быть только эмоциональным состоянием. Она становится защитной стратегией, механизмом, через который человек компенсирует собственную уязвимость, страх зависимости или чувство недостаточности.
Как зависть может толкать к разрушению
Одна из самых известных концепций в этой области принадлежит Мелани Кляйн, которая выделила два фундаментальных положения психики – параноидно-шизоидное и депрессивное.
В рамках первого доминируют страхи, связанные с внешним миром, воспринимаемым как угрожающий. Именно здесь формируется основа для проективной зависти – чувства, при котором субъект хочет не только обладать чужим, но и лишить другого этого блага.
Такая зависть содержит в себе не только желание присвоить, но и импульс к разрушению.
Почему?
Потому что сам факт наличия у другого того, чего хочешь ты, становится невыносимым напоминанием о своей ограниченности. Чем выше идеализация объекта, тем сильнее болезненная реакция на него.
Это можно сравнить с ситуацией, когда человек голоден, а перед ним – обильно накрытый стол. Но он не может подойти к нему, не может взять еду.
И тогда вместо попытки достичь желаемого, он может испытать импульс опрокинуть стол, чтобы никто больше не имел того, чего лишен он сам.
Проективная зависть часто работает именно так: она стремится уничтожить то, к чему испытывается скрытое желание, потому что иначе невозможно справиться с болью разделения.
Пример 1. Уничтожение объекта желания
Женщина завидует подруге, которая вышла замуж за человека, которого она сама когда-то хотела. Она не признаёт своих чувств, но начинает шептать знакомым, что этот брак обречён, что мужчина – эгоист, а её подруга – глупышка.
В быту назвали бы «сплетнями». На самом деле – попытка разрушить то, чего она хочет.
Пример 2. Сожаление, перерастающее в разрушение
Молодой художник видит, как его сверстник получает первую выставку. Он искренне рад за него, но одновременно чувствует внутри пустоту: «Почему не я? Почему я ещё не там?». Со временем эта боль превращается в молчаливую агрессию.
Он начинает саботировать свои собственные проекты, отменять встречи с галеристами, говоря себе: «Зачем стараться, если всё равно будет хуже, чем у него?».
Пример 3. Разрушение связи с собой и другими
Женщина наблюдает, как её коллега получает повышение, которое она тоже хотела. Вместо того чтобы злиться или критиковать его, она начинает внутренне отстраняться – от работы, от коллектива, даже от себя. Она говорит: «Мне всё это не нужно. Я и так знаю, что я хорошая».
Но на деле – прекращает развиваться, отказывается от новых возможностей, словно наказывает себя за то, что не смогла получить желаемое.
Эти примеры показывают, как зависть может принимать разные формы в зависимости от внутренней психической организации человека.
В параноидно-шизоидном положении доминируют страх и агрессия, которые находят выход во внешнем мире – через критику, разрушительное поведение и проекцию собственной боли на других. Человек стремится уничтожить то, к чему испытывает скрытое желание, чтобы больше не сталкиваться с мучительным напоминанием о своей ограниченности.
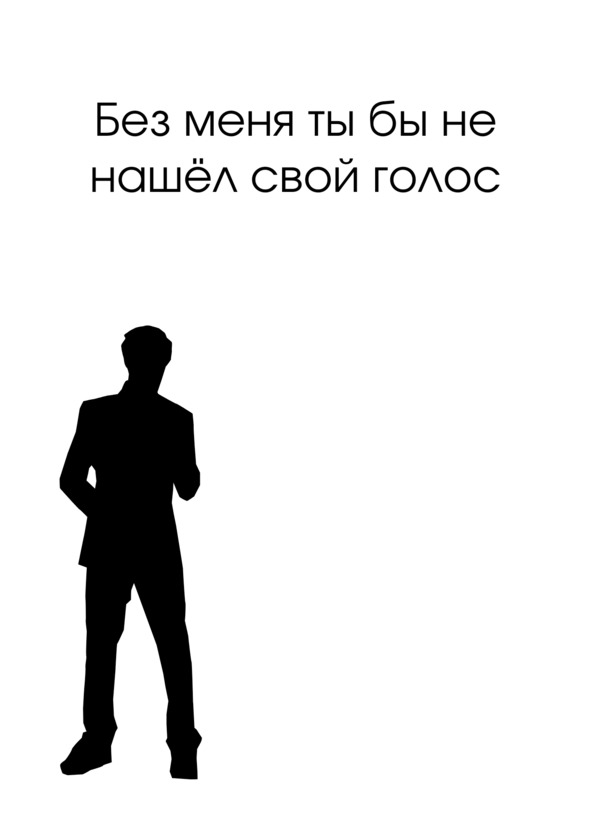
В депрессивном положении, напротив, эмоциональный опыт сосредоточен внутри – здесь преобладают переживания утраты (не путать с потерей чего-либо конкретного, здесь имеется в виду бессознательный опыт), чувство вины и бессилия. Такая зависть может привести к самосаботажу, отказу от возможностей, внутреннему отчуждению и глубокому ощущению собственной недостаточности.
И в том, и в другом случае – будь то направленная наружу агрессия или замкнутая в себе боль – речь идёт о защитных механизмах, возникающих в ответ на невыносимое ощущение разделённости между собой и тем, кто обладает благом, которое мы так хотим иметь, но не можем себе позволить.
Пожалуй, расскажу ещё об одном случае из своего опыта – на этот раз он касается не терапевтического пространства, а моих личных отношений
Когда-то у меня была приятельница, с которой мы общались довольно близко, хотя и не могли назвать наши отношения полноценной дружбой.
Она казалась мне той, которая нашла своё место в жизни: хорошая работа, любящий муж, четверо детей, стабильность и уверенность в себе.
Мы встречались то в ресторане, то дома, пили чай за длинными разговорами. Мне нравилось с ней общаться – она была образованной, остроумной, интересной собеседницей.
Со временем я начала замечать в её речи странности – такие вот небольшие фразы, которые звучали как шутки, но вызывали у меня внутреннее напряжение. Например, она говорила: «Ты так много успеваешь! Наверное, у тебя много свободного времени», «Мне показалось или мой муж как-то особенно к тебе относится», «Я вижу, что с моей младшей дочерью у вас есть свои секреты».
Здесь немного отступим в сторону от повествования, чтобы разобраться с оговорками приятельницы.
Реплики о «свободном времени» – первые признаки проективной идентификации
Это замечание, звучавшее почти шутливо, на самом деле было началом скрытого процесса. В нём чувствовалась и констатация факта, и акт проективной идентификации, один из самых тонких и опасных защитных механизмов.
Если человек не может принять в себе собственные желания, страхи или недостатки, он начинает передавать их другому – не словами, а через интонацию, поведение, повторяющиеся фразы. Он хочет, чтобы вы приняли его внутреннюю позицию. Чтобы стали тем, кем он боится быть сам. Или чтобы подтвердили её правильность.
Когда она говорила мне, что у меня должно быть много свободного времени, потому что я многое успеваю, она, возможно, пыталась отдать мне своё чувство беспокойства – чувство, что она сама не может этого делать, что у неё нет такой свободы, но при этом – где-то внутри – есть зависть. Зависть, которую она не могла назвать своим именем.
То был первый этап психологического сдвига, в котором она начинала строить образ, в который хотела, чтобы я вписалась: «Ты – та, у кого всё получается легко. Ты – та, кто имеет то, чего нет у меня».
Она начинала формировать бессознательный контракт: ты – успешная, самостоятельная, ты свободная, а я – та, кто «не может», кто «не такая», кто «зажата».
Замечание об «особом отношении» мужа – триангуляция и страх зависимости
Для меня никакой «интриги» не было. Муж приятельницы был так называемым «харизматиком», то есть у него со всеми были «особые отношения». Другой вопрос – почему она обнаружила особенность своего мужа только в отношениях в состояния триангуляции (тем, кого интересует тема отношений в состоянии триангуляции, рекомендую свою книгу «Триангуляция VS переходный объект», Ridero, 2024).
Возможно, это был страх потери контроля над ситуацией, страх того, что кто-то другой может быть более значим для её мужа, чем она сама. Или же, что важнее, – страх того, что я могу быть более свободной, более собой, чем она.
Триангуляция – это не всегда явная ситуация ревности или вовлечённости третьего лица.
Иногда это психологическая конструкция, в которую один партнёр вводит другого, чтобы смягчить свою собственную тревогу. Или, наоборот, чтобы проверить: «Ты действительно рядом со мной, или ты хочешь быть с кем-то другим?».
В данном случае эта фраза работала как проверка границ, как способ начать создавать напряжение там, где его, казалось бы, не должно быть.
Но также – и это особенно любопытно – как способ переложить на меня часть своей тревоги, связанной с её собственной зависимостью от мужа.
Если она могла представить, что он испытывает особое отношение ко мне, это позволяло ей частично освободиться от своей роли в браке. Словно: «Если он может быть таким с ней, значит, не только я не идеальна, но и он – тоже».
Это типичная проекция внутреннего конфликта. Она не говорила мне: «Мне не хватает уверенности в наших отношениях», «Иногда я чувствую себя менее значимой рядом с другими», или даже «Мне трудно чувствовать себя любимой, если я не лучшая во всём».
Нет. Она нашла более безопасный способ – спросить меня. И тем самым – сделать меня носителем её сомнений.
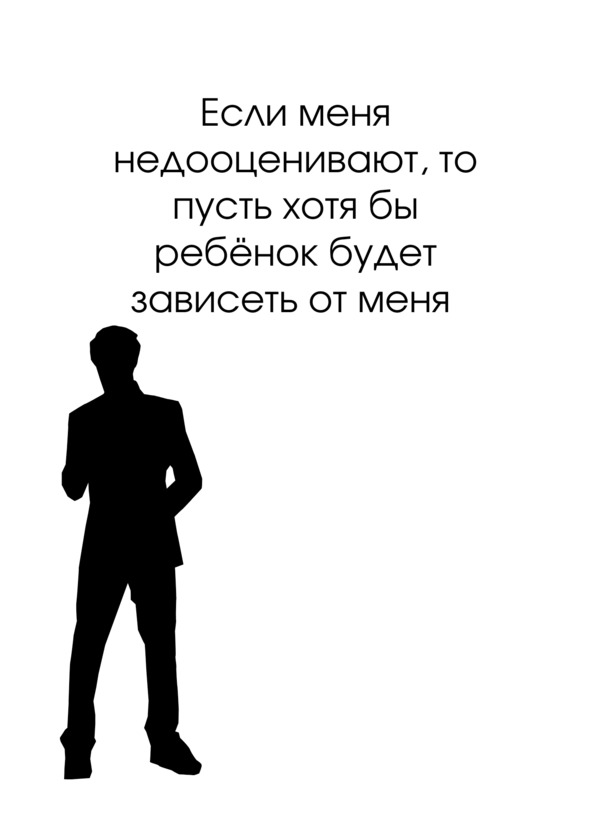
Реплики о «секретах с дочерью» – зависть к связи
Дочь училась рисовать, и я помогала ей – не как педагог, а как человек, который сам занимается творчеством и умеет находить язык с детьми.
Когда мать говорит: «Вы с моей дочерью общаетесь по-особенному… У вас свои секреты» – это замена одного чувства на другое.
Под маской вопроса скрывается зависть к живой, открытой связи, которую она сама, возможно, не имела с дочерью. Или ей казалось, что не имела.
Или – что ещё глубже – жалость к себе как к родительнице, которой не достаётся такого качества общения.
Она не могла сказать: «Мне жаль, что я не так близка со своей дочерью, как вы с ней». Не могла потому, что это потребовало бы признания: «Я не получаю достаточно тепла, я не реализую свои материнские желания, я не такая, какой хотела бы быть».
И вместо этого она начала использовать меня как зеркало, через которое можно было увидеть, что кто-то другой может быть лучше, чем она.
Это – классический путь: идеализация → зависть → обесценивание → проекция → попытка взять контроль обратно через критику или копирование.
Возвращаемся к истории…
На первый взгляд, всё это можно было списать на юмор или даже комплименты. Но я-то знала, что за этими словами может скрываться нечто большее. Просто тогда я не хотела этого видеть, продолжая ее идеализировать, «не веря глазам своим».
Какое-то время я ещё пыталась отвечать в том же духе, отшучивалась, надеясь, что это действительно просто игра. Я верила, что с ней всё в порядке, потому что хотела верить в это.
Однако вскоре ситуация стала приобретать более явный контур. Моя приятельница начала… подражать мне.
Сначала это были мелочи – украшения, которые выглядели идентично моим. Затем – стиль одежды, который она начала повторять. И если раньше я могла объяснить совпадение случайностью, то теперь стало очевидно: здесь присутствует намеренность.
Я спросила её напрямую: «Твои новые серьги очень похожи на мои. Ты специально их искала?». Она не ответила. Только ушла в сторону, перевела разговор, стала говорить о чём-то другом.
Когда я увидела, что она уходит от разговора, стала ясной дальнейшая динамика, – приятельница перешла к обесцениванию.
Она стала делать странные выпады, будто невзначай, например: «Посмотри, у меня новая сумка! Помнишь, ты носила ту? Мне твоя не понравилась, я купила лучше».
В такие моменты внутри меня просыпалось недоумение: «Вот это поворот!». И тогда я поняла, что ошиблась. Я слишком долго позволяла себе верить в то, что с ней всё хорошо, что её слова – просто особенность характера, способ быть, своего рода экстравагантность.
На самом деле, за всем этим стояло глубокое чувство зависти, которое она не осознавала, но которое активно выражалось через её поведение. Её комментарии, её подражание, её неожиданная агрессия – всё это было частью сложного защитного механизма.
Интересно, что я, как практикующий психоаналитик, не сразу распознала эту динамику. Возможно, потому, что мне хотелось сохранить иллюзию гармоничного общения, возможно – потому что мне не хотелось чувствовать себя объектом зависти.
Я выбрала путь минимального сопротивления: решила просто сбавить темп, перестать искать встреч, уйти мягко, без конфронтации. Это был мой выбор – не вступать в разбор отношений, не сталкиваться с ней лицом к лицу.
Сейчас, спустя годы, я понимаю: тот самый механизм проективной идентификации, о котором мы часто говорим в терапии, работал во всей полноте. Через эти замечания, через намёки, через её поведение она передавала мне часть своей тревоги, своих страхов, своего внутреннего разлада.
Но я не была ее психоаналитиком, я была ее приятельницей. Я не согласилась с этой ролью – «склада» для ее проекций. Не стала играть в это. Просто ушла.
Потому что поняла: если я хочу сохранить контакт с собой, с моей самооценкой, с моей реальностью – я не могу быть пространством для чужих проекций, особенно когда они маскируются под дружбу.
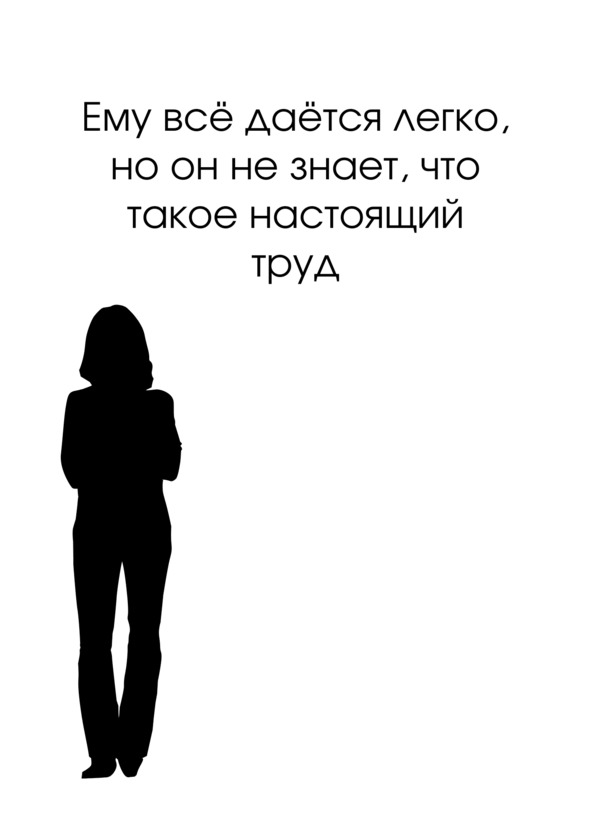
Чему научил такой опыт?
Во-первых, тому, что зависть может быть неявной, даже элегантной – и всё равно ранить.
Во-вторых, что мы сами можем идеализировать другого человека, чтобы не столкнуться с его скрытыми страхами.
И, в-третьих, что иногда лучшая форма заботы о себе – это тихий, но решительный шаг назад.
Зависть как реакция на собственную «неполноценность»
Нарциссическая зависть – это ещё один уровень защиты, связанной с уязвимостью нарцисса. Здесь зависть маскируется под презрение, равнодушие или даже превосходство.
На поверхности – уверенность, иногда даже холодное спокойствие. Под ней – глубокое беспокойство по поводу собственной ценности.
Нарциссическая зависть возникает, когда человек сталкивается с успехом, любовью, красотой или достижением другого, которые он сам хотел бы иметь. Но вместо признания своего желания, он реагирует с обесцениванием, критикой, агрессией.
Это можно понять через динамику зеркала: если человек воспринимает себя как центр мира, то любой другой, кто привлекает внимание или демонстрирует успех, становится угрозой его целостности.
Такой человек боится потерять своё место, свою идентичность. Поэтому его зависть часто принимает форму контроля, манипуляции, разрушительной критики.
Особенно болезненно нарциссическая зависть проявляется в отношениях, где один партнёр находится в роли идеализированного объекта. Он должен быть безупречным, успешным, любимым, красивым – потому что только так второй может сохранять иллюзию своей значимости. Как только этот образ рушится, наружу выплывает раздражение, обвинения, разрушительные действия.
Три примера нарциссической зависти, с лёгким юмором и глубиной, соответствующей описанной динамике
1. На работе проходит совещание, и молодая сотрудница делает презентацию, которая вызывает бурю аплодисментов.
Нарциссический коллега, до этого считавший себя «звездой отдела», сидит с едва заметной улыбкой на лице и в конце говорит: «Хорошо, что она не перестаралась. Всё-таки это базовые вещи – просто красиво подано».
Он даже не осознаёт, как внутри него кипит раздражение: «Как она могла? Ведь внимание – моё пространство!». Его уверенность треснула, потому что кто-то другой стал центром, пусть даже ненадолго.
2. Друг из университета выкладывает фото с отпуска: пляж, загар, улыбка.
Мужчина с нарциссическими чертами просматривает фото и мысленно фиксирует: «Ну да, он отдыхает, пока я тут строю империю. Хотя, честно говоря, не понимаю, на что он живёт».
При этом он сам мечтал об отпуске, но вместо радости за другого или желания сделать то же самое, он начинает строить внутреннюю стену: «Я особенный. Я не такой, как все. И уж тем более не такой, как он».
Зависть прячется за превосходством, но постепенно питает раздражение.
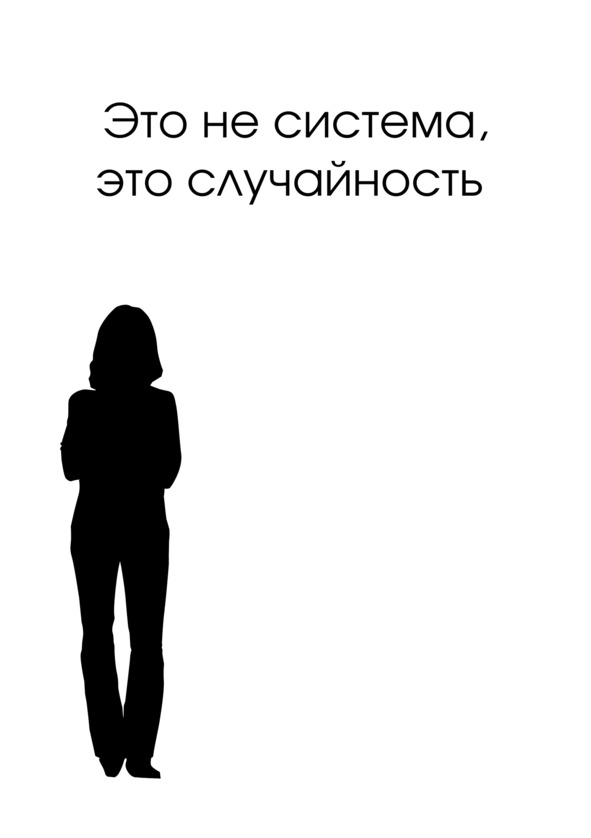
3. Женщина, которая всегда считала себя «лучшей подругой», замечает, что её подруга стала больше общаться с новым человеком на работе.
Та рассказывает, как весело они провели выходные, какие интересные темы обсуждали.
Наша героиня слушает, кивает, улыбается – но где-то глубоко внутри звучит почти детский протест: «Как так? Я всегда была той, с кем интересно. Кто ещё может так понять её чувства, как я?».
И вот уже следуют мягкие, почти невидимые замечания: «Ну ты же знаешь, она любит всё усложнять. С ней сложно быть рядом».
Так она сохраняет свою значимость, одновременно теряя связь с реальным чувством – завистью.
Нарциссическая зависть редко приходит в явном виде. Она маскируется под уверенность, спокойствие, даже доброжелательную критику.
Но под этой поверхностью скрывается страх – страх потерять своё место, оказаться не единственным, не исключительным. Чем выше человек ставит себя в своей внутренней иерархии, тем болезненнее становится каждое вторжение в этот порядок.
И тогда зависть принимает форму защиты – через обесценивание, контроль, отстранённость. Это попытка сохранить хрупкий внутренний баланс, где самооценка зависит не от себя, а от сравнения с другими.
Связь со страхом зависимости
И проективная, и нарциссическая зависть имеют общую корневую причину – страх зависимости. Оба типа зависти являются формами психологической защиты, направленными на сохранение автономии, самоидентичности и ощущения контроля.
Когда человек зависим, он уязвим. Он признаёт, что нуждается в другом, что в другом есть то, чего ему не хватает.
Для некоторых личностей такое признание невозможно – оно активирует древние страхи потери, унижения, исключения. Поэтому вместо признания потребности, они используют зависть как способ отстраниться, оттолкнуть, унизить.
Зависть становится щитом – пусть и колючим, пусть и болезненным, но знакомым. Он позволяет сохранить иллюзию целостности, даже если за этим стоит разрыв с другими и с собой.
Проективная и нарциссическая зависть – это не проявления слабости или несовершенства характера. Это защитные механизмы, которые формируются в ответ на ранние травмы, дефицит признания, чрезмерную критику или, наоборот, идеализацию.
Понимание этих форм зависти – первый шаг к их осознанию. А осознание – начало работы над собой.
Когда человек начинает замечать, как часто он реагирует на успех других с критикой, как легко переходит к обесцениванию, как быстро хочет разрушить то, к чему испытывает желание, он получает возможность задать себе важный вопрос: «Чего я на самом деле хочу? И почему мне кажется, что я не имею права на это?».
В следующей главе мы рассмотрим, как зависть проявляется в отношениях – от партнёрских до родительских, и какие скрытые динамики могут стоять за кажущимися «обычными» конфликтами.
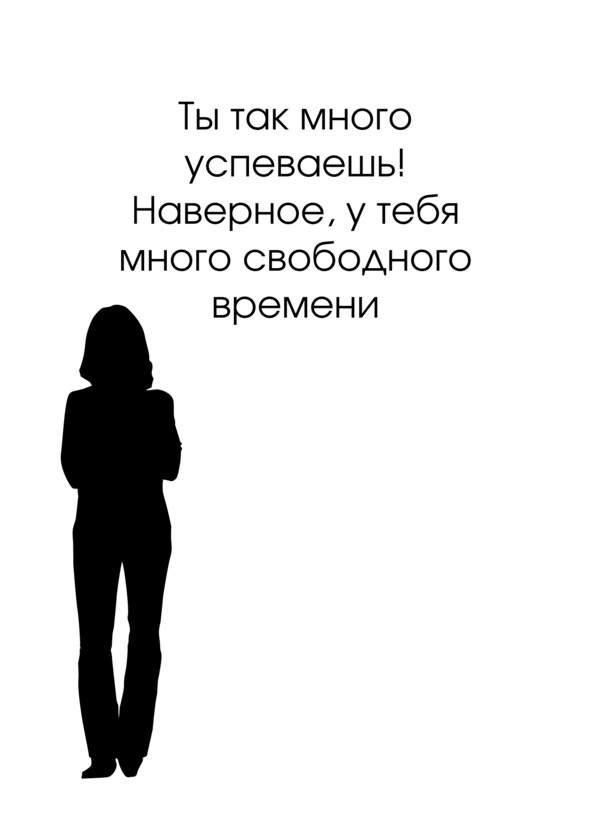
Зависть в отношениях
Зависть редко остаётся личной проблемой. Она почти всегда становится частью системы – будь то романтические отношения, семейные связи или дружеское общение.
В этих контекстах зависть принимает форму сложных взаимодействий: от скрытых упрёков до явного контроля, от разрушительной критики до внезапного ухода.
Но особенно болезненно она проявляется там, где есть идеализация. Когда один человек наделяет другого чертами совершенства, а затем начинает испытывать раздражение из-за того, что сам не может быть таким – возникает опасный паттерн: идеализация + зависть = контроль или уход.
Партнёрская динамика: идеализация + зависть = контроль или уход
Идеализация в любовных отношениях – это не всегда признак поверхностности. Часто она выполняет важную функцию: помогает компенсировать собственную неуверенность, страх одиночества, внутреннюю пустоту.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.